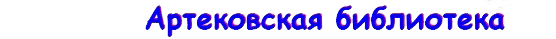|
→ Версия для КОМПЬЮТЕРА 
|
«Невинные тайны», А.Лиханов
2
Жене не понравилось, что море им выдают точно мороженое - как бы горлышко не застудили. Сперва бесконечные беседы, объяснения распорядка, знакомство, а уже потом, когда все надоест... Нет, он не привык к такому.
Они с ма всегда сразу бежали к морю и бултыхались, пока не заноет живот от голодухи или не придет па и не заворчит всерьез, что так нельзя, что это безрассудство и в конце концов эгоизм: бросили его одного.
Да, куда бы они ни летали - в Сочи, Батуми или на болгарские пляжи, - он всегда получал море прежде всего, иначе зачем же эта красота, а лагерь устроен на самом берегу - к чему, если сперва надо слушать нудные объяснения, которые совершенно не лезут в голову при такой жаре?
Наконец их выпустили на волю - точно стаю воробьев из клетки. На тебе, тут же выяснилось: половина не умеет плавать. Добро бы, одни девчонки, загорелая красотка заплюхалась в их кругу, будто большая утка среди молодых утиц, но и мальчишки тоже очень даже многие по-бабьи визжали и противно вякали. Ничего себе морская дружина!
Участок пляжа у них был свой, огороженный заметными метками, море тоже оказалось разгороженным со всех сторон яркими буями - еще этого не хватало! Не море, а игра в классики, сплошная несерьезность. Женя хотел было возмутиться, что-нибудь сказать, но, подумав, решил, что гораздо мудрее жить, как ты привык, без всяких к тому объявлений. Кому он, интересно, должен рассказать, что трижды в неделю ходит в бассейн отцовского комбината, что он чемпион своей школы на сотку вольным стилем, в своем, конечно, возрасте, и держит второе место по городу.
Но там - пресная вода. Соленая морская гораздо легче для плавания, это известно каждому, так что уж извините!
Он снял шорты, остался в адидасовских плавках, на ходу натянул шапочку с фирменным трилистником - эти вещи разрешалось брать из домашней амуниции, ступил в воду и с удивлением заметил, что на него смотрят.
Внимательно смотрели на него девчонки, все до одной, Аня, кое-какие пацаны.
Когда он проходил мимо Пима, тот спросил его:
- Ты умеешь плавать, Женя?
- Умею, - флегматично ответил Женя, разглядывая на правой стороне груди вожатого чуть ниже соска блестящую розоватую кожицу и глубокую, неприятную впадину. Павел Ильич перехватил Женин взгляд и смущенно прикрыл эту яму ладонью. Миновав его, Женя обернулся. Со спины ниже лопатки розовела еще одна впадина. «Ого, - подумал он, - как его искурочило. Видать, авария. Автомобильная катастрофа».
Он оттолкнулся ногами от дна, нырнул, сделал два-три сильных гребка, выскочил на поверхность, помотал головой, стряхивая воду, открыл глаза и помахал саженками к гирлянде поплавков, отделявших море от загона.
Всем им только что строго-настрого запрещали выплывать за ограду, и это ясно, кто будет возражать, коли народ не умеет плавать, предусмотрительность на воде - элементарный закон, но ведь не для всех же, он-то тут при чем, Женя?
Не доплывая метров пяти до ограничителей, он лег на спину, покосился в сторону берега. Оттуда смотрели на него, но уже не так, как вначале, девчонки вместе с вожатой заплескались и завизжали снова, закрякал, как подбитый селезень, Генка, тот самый, с зеленым отливом парень, который орал нынешней ночью, он-то и отвлек взгляд Пима, больше Женя ждать не стал, перевернувшись для удобства на живот, согнул тело пополам и ушел в прозрачную зеленую глубину.
Ему всегда хотелось кричать от восторга на морской глубине. Ты один в этой зеленой плотной массе, где-то внизу белеет дно, все неведомо вокруг, навстречу плывет медуза, да и не одна, надо лавировать между ними, чтобы не обжечься, прямо по курсу идет зеленушка, сейчас она шарахнется в сторону, - все, воздух кончился, следует аккуратно всплыть, перевернувшись лицом вверх, глубоко вдохнуть несколько раз, и снова уйти под воду - уже давно позади поплавки, вниз - аккуратно вверх, вниз - вверх, несколько таких ныров, и ты будешь далеко от буйков в настоящем море, на глубине, которую не стыдно ощущать под собой.
Женя в последний раз глотнул воздуха, пошел отвесно вниз.
Какая же тут красотища, надо будет раздобыть ласты и маску, похоже, это непуганые места, кроме зеленушек есть другая рыба, наверное, окуни, хорошие мохнатые заросли и громадные валуны..
Женя посмотрел вверх. Поверхность моря была серебряной так освещало ее солнце, походила на небо, и по этому небу смешно передвигался человек.
Он очень торопился, полз по стеклянной плоскости, рукам и ногами разрывая небо в тучи серебристых пузырей. Женя еще снизу узнал его, понял, куда он торопится, оттолкнувшись от дна, ласточкой пошел вверх.
Павел промчался мимо, а когда Женя вынырнул, сделал еще несколько сильных гребков, прежде чем догадался обернуться назад.
- Павел Ильич? - крикнул ему Женя, успокоивший дыхание. - Куда вы?
Он нарочно сделал простоватое и обеспокоенное - конечно же, за Пима, за его судьбу - выражение лица.
- Вам помочь? - не удержался он от добавки, но по выражению Пима было ясно, что добавка, конечно же, лишняя.
Вожатый плыл назад, молчал, и в эти мгновения, видимо, выбирал выражения. Выбрал, впрочем, весьма сдержанное.
- Помоги! - попросил он. - Сделай милость! Вернись за буи и больше не смей нарушать наши правила, иначе...
Что будет иначе, он не сказал, может быть, сам не знал или не решился. «Ага, - понял Женя, - иначе полагалось отправлять домой. Но дома-то у них не было!»
Он злорадно хихикнул над Пимом, не про себя на сей раз, а в воду, что, впрочем, было одно и то же.
- Скажите, - крикнул он, умело не заостряя тему, вовсе даже не отвечая на вопрос вожатого, уводя разговор совсем в другую сторону, - а что у вас за вмятины на груди? Авария? Катастрофа?
Несколько мгновений они плыли молча, и вожатый не отвечал. «Не на шутку разобиделся, вот ведь чудак», - подумал Женя. Но нет, оказалось, вожатый не может обижаться, не имеет такого права.
- Что-то вроде этого, - ответил Павел Ильич. Все-таки подобиделся...
- А вот откуда у тебя адидасовские плавки? - спросил вдруг вожатый.
Это было довольно неожиданно, и Женя сперва ответил, а уж потом подобрался.
- Подарили! - воскликнул он простодушно. Дальше требовалось срочно выдумать правдоподобную ложь.
- У меня богатая бабушка! - крикнул он, немного подумав. Ведь наверняка в этик бумагах не пишется про бабушек. Он вспомнил бабуленцию, как она плакала, когда он уходил из дому в эту поездку - штаны чужие, сумка чужая, свои только куртка, адидасовские плавки да шапочка - других, попроще, ма не нашла, и ему сделалось стыдно перед Настасьей Макаровной, она бы про него, своего внука, такой гадости никогда не произнесла. Он хотел извиниться перед ней, как-то так - хотя бы себе самому - отделить добрую, хорошую бабуленцию от этой лжи, от этой гадкой выдумки, и объяснил Пиму, чтобы увести в сторону его бдительность:
- Только она очень старенькая!
Это-то была правда.
Женя вышел из воды, развернул полотенце, аккуратно лег на него. Рядом с ним прямо на песок плюхнулся Генка. То ли он замерз в воде, то ли еще отчего, но Жене показалось, позеленел еще пуще. Прямо зеленушка.
- Ну, ты даешь! - сказал Генка.
- Ты тоже даешь! - кивнул ему Женя.
- А че я даю? - искренне удивился тот.
- Ночью орал, как зарезанный, - усмехнулся Женя.
- А-а! - Генка сразу опал, прижался к песку, точно лопнувший мяч. Он отвернул от Жени свое лицо, как-то беспомощно поелозил худыми руками, облепленными песком, и притих. Будто он безответный щенок и его только что ударили палкой...
Такого поведения Женя еще не встречал. Он стремился, пусть неосознанно, к ровным отношениям со всеми и всегда в ответ встречал такое же ровное отношение. Эта ровность превращалась в обходительность. Если назревало острое положение, необходимость выйти за черту ровности, он предпочитал отходить в сторону. Переводить разговор на другую тему. Как-то так уж это у него получалось. Умел он огибать острые углы с самого детства - может, у отца научился. Словом, в школе, в секции плавания, во дворе дома, в узком его мире, из которого пока что ему не приходилось выходить, он умел ладить со всеми, и, надо заметить, ему отвечали тем же. Никто из пацанов никогда не нахамил ему: было не за что. Со взрослыми у Жени не существовало вообще никаких проблем - речь, конечно, о взрослых со стороны, ведь если уж дома он мирно уживался со взрослыми, а дома, как известно, множество поводов для маленьких и больших конфликтов у каждого человека - взрослого или даже вовсе не большого, - словом, если дома он поживал себе тихо и благополучно, то посторонние взрослые - в булочной, скажем, или опять-таки - в школе, в секции - были для него чем-то хоть и одушевленным, но вовсе не обязательным. С ними можно и нужно разговаривать, но вовсе ни к чему допускать их близко к сердцу.
В общем, так устроен был Женин мир, что он никогда не расшатывался от бурь, его не кренило то в одну, то в другую сторону, будто на крутой волне, никто его не расстраивал и не беспокоил, и от него никто, никогда, нигде не расстраивался.
И тут - на тебе! - этот Генка вдруг из-за какой-то совершенно ничего не значащей фразы вдруг судорожно заскоблил руками по песку, поджал одну тонкую ногу и отвернулся, замолчав. Только что не заскулил.
Женя поглядел ему в затылок. Обычно нервный человек, если долго смотреть ему в висок или в макушку, через секунд тридцать начинает крутиться, оборачиваться, а Генка был явно такой нервный человек, иначе чего 6ы ему орать ночью на весь лагерь.
Генка и впрямь закрутил по песку ногами и руками, тяжело вздохнул, даже простонал. А когда Женя, устав, отвел взгляд, запоздало повернулся.
- Ну и что! - проговорил он жарко и тихо, почти прошептал. - Все мы тут такие! Не слыхал?
Он сел перед Женей на песок, скрестил ноги, как индийский йог, худой, как в самом деле йог, лицо, как у йога, изможденное, желтое, с прозеленью на висках, возле глаз и ушей, только на самых скулах живая, чуть розовеющая кожа.
Женя заметил про себя, что Генка очень некрасив, какой-то узкий лоб, слишком широкий нос и отвисшая толстая губа делают его даже неприятным, но вот карие глаза, живые и яркие, эту некрасивость сглаживают.
- Ты-то сам кто такой? Где твоя маманя? Отец?
Он смотрел на Женю без всякого пристрастия, даже доброжелательно смотрел, и Женя понял, что Генка заранее сочувствует ему, потому что хоть и приблизительно, а знает ответ, Женя для него свой брат, а эти вопросы - с известными ответами - ничего более, как аргументы, как доказательства, нужные, чтобы успокоиться самому и успокоить других.
И все-таки это не были риторические вопросы. Генка ждал ответа, и Женя ответил ему, не отводя в сторону взгляда:
- Испарились! Исчезли!
- Ну вот!
Генка не обрадовался, нет. Он просто повнимательнее поглядел на Женю, как будто что-то хотел спросить еще, но передумал, напротив, сам предложил:
- Я тебе, конечно, могу объяснить, но ты не болтай, пожалуйста...
Женя кивнул, улыбаясь про себя, предполагая, как сейчас этот некрасивый Генка начнет выдумывать про себя какую-нибудь геройско-враческую небыль, но Генка придвинулся к нему поближе и серьезно сказал:
- У меня отец мамку убил!
Видно, на Женином лице появились признаки недоверия, и Генка стал объяснять:
- Я еще маленький был, года четыре, может, пять. Батька приходит с работы, а маманя не одна, понимаешь? К ней один приезжий ходил, водку вместе лакали и все такое. Ну батяня двустволку со стены и обоих - наповал. А я в углу сидел, из кубиков избушку строил.
- Врешь! - проговорил Женя. Но лицо Генки сделалось вовсе зеленым, глаза остановились, стали мертвыми, казалось, вот-вот и он опять закричит, заорет благим матом, как тогда, ночью, - истошно и безнадежно.
Генка исчез с пляжа, здесь оставалась только его плоть, а душа улетела туда, где произошло это несчастье, совершилась беда, где Генка этот давно не живет и где все-таки он навеки остался...
- Ген, Ген, - тронул его рукой Женя. Тот не шевелился. Тогда Женя вскочил и потряс пацана за плечи, потер ему уши, так полагалось, когда человек терял сознание, где-то, в каком-то кино он видел это.
Генка глубоко вздохнул, как тогда, во сне, очнулся, ожил, вернулся на пляж.
- Извини меня, - сказал ему Женя. - Прости, Генка.
Тот усмехнулся.
- Да что ты, - махнул он ладошкой, измазанной в песке. - Я уже забыл, понимаешь, только вот во сне справиться не могу, ору. Человек же во сне собой не владеет, понимаешь?
С Женей что-то случилось - в одно мгновение, в миг. Никогда с ним такого не было, хоть вился всегда вокруг него хоровод приятелей. Нет, никогда никого он не жалел с такой щемящей, все затмевающей тоской, с такой обнаженной, открытой болью. Ему вдруг захотелось заплакать, завыть, заорать, как будто это не с Генкой, а с ним произошла такая страшная, такая непоправимая беда, ему захотелось заплакать и обнять этого некрасивого Генку, чтобы хоть чуточку помочь ему.
Он быстро встал на колени рядом с Генкой и обнял его.
Он подумал, что сделал, наверное, что-то не так, неправильно, потому что Генкины плечи сразу затряслись, он молча, содрогаясь, заплакал, и Женя испытал еще одно новое чувство - ему стало страшно. Страшно этого беззвучного раскачивания худого тела, этого немого плача, страшно за Генку, с которым сейчас может случиться что-нибудь такое, о чем они оба станут жалеть потом...
Женя отстранился от Генки, взял его бессильно повисшую руку, зашептал, чтобы никто не услышал их, никто не обратил внимания:
- Геныч, не надо! Генка, ну перестань.
Генка успокаивался не просто, не сразу, будто его расштормило, как море, и волны всё не могут улечься в его настрадавшейся душе.
Наконец он утих и сказал, как бы снова объясняя себе свои слезы:
- Ты не думай, я не про то. Отца жалко. Он отсидел. Из тюряги прямо ко мне. Сынок, мол, не могу без тебя жить. Прости. А я, знаешь, жалею его, но ничего с собой сделать не могу. Месяц я с ним только пожил. Какие-то припадки начались. Врачи велели нам разойтись. Обратно в детдом вернуться.
Он вздохнул опять, огляделся, отер щеки тыльной стороной ладони, улыбнулся:
- Так что батя у меня есть, Женька!
И вдруг сказал такое, что Женю перевернуло: - Вот как ты-то, Жень?
Генка, выходило, его пожалел!
*
Вернувшись к буям, Павел долго не мог прийти в себя, отдышаться после этого бешеного спорта, после ложной тревоги. Он прохлопал, когда этот мальчишка, Женя Егоренков, ухитрился обмануть его и уйти за поплавки. Крикнула Аня. Крикнула ему и мотнула головой. Павел проследил за ее взглядом и ничего не понял: в конце морской выгородки, а уж тем более за буями, никого не было, но Аня снова и настойчиво крикнула ему:
- Ушел, ушел!
Через мгновение из-под воды что-то всплыло, потом в воздухе мелькнули мальчишечьи ноги, и Павел, не раздумывая, рванулся к тому месту.
Уже вернувшись, уже отправив Егоренкова на берег, уже придя в себя от неистовой, хоть и краткой гонки, Павел подумал о том, что все до странности повторялось, только на этот раз в море, и вообще тревога оказалась липовой, но чувства его настигли те же самые, вот ведь как... все было натянуто в нем до крайней степени, все мышцы; ему казалось, он не чувствовал себя, только тревога и напряжение и еще щекочущее низ живота чувство смертельной опасности. Ведь бросаясь за Егоренковым, он думал лишь о том, что мальчишка нерасчетливо заплыл и тонет, а он проморгал, прохлопал его, и вот снова из-за него кто-то должен погибнуть, исчезнуть, уйти - опять он виновен, опять...
Он буранил воду, разрывая ее податливую плоть, - сразу же, с первого мига этой борьбы ощутив всю разницу между собой нынешним и собой прошлым. Тело слушалось безотказно, но после первых же гребков откуда-то изнутри, из глубин собственной плоти подвалила тяжесть, которая, казалось, тормозила, делая движения вялыми, несильными, ненадежными. Выдыхаясь, он все же увидел, как мальчишка раз, другой, с большими перерывами вновь возник на поверхности, и снова исчез под водой. Павел собрал себя, на мгновение расслабившись, - ведь впереди предстояло самое главное - нужно было нырять за мальчишкой, и он ясно понял, что не выдержит и, уяснив окончательно положение дел, вынужден будет крикнуть Ане, махнуть ей рукой, чтобы та поняла - тревога, настоящая, неподдельная, и надо вызвать спасательный катер... Но в это время его окликнул Егоренков.
Павел даже не нашелся, что сказать этому пловцу. Ответить, как следует, просто недоставало сил. Свинтус, вот как следовало 6ы его назвать. Да если бы еще он знал, какие мгновенные воспоминания вывернул он одним махом из глубины памяти, еще свежей, свинтус этакий.
Павел ухватился рукой за буй, лег на спину, приходя в себя и ощущая, как выхолощенное нутро вновь наполняется жизнью.
Он даже содрогнулся от столь неожиданного: а может, вся эта двухгодичная командировка в лагерь - не что иное, как непроизвольный поиск ответа после того, что было, попытка понять тайну детской ярости, мальчишечьей ненависти...
Но что общего? Господи, какие разные истины - тут и там... А глаза? Глаза того мальчишки, убийцы, который стрелял в него, но которого не смог убить он, Павел.
Не смог, а был должен, даже обязан...
Да, страшные воспоминания вывернул Егоренков.
Их бронетранспортер шел последним, прикрывал колонну с продуктами, и сначала ударили по ним, чтобы запереть дорогу сзади, образовать пробку, создать невозможность отступления, скатывания, по горной дороге вниз на задней скорости, - вперед, в подъем, выходить из засады всегда сложнее: впереди неизвестность.
Бой вышел короткий, четверть часа, не более - машины, идущие впереди, тотчас остановились, сконцентрировали огонь на засаде, которая подожгла их транспортер, поэтому, когда Павел выскочил из огня через задний борт вслед за Серегой, опустошив на звук стрельбы половину обоймы, бой, по существу, кончился. Он еще не знал в тот миг, что двое в машине погибли - Олег Черниченко и Наби Алекперов, а еще один, Ашотик, тяжко ранен, - они с Сережей рванули вперед и разошлись, рассыпались в разные стороны, как учили их не раз, - Серега упал за камень, и Павлу показалось, он просто укрылся. Но Серега не укрылся, нет, в следующее мгновение его гимнастерку в двух местах вспороло, вывернув нательное белье - точно два белых клочка ваты вывернуло, а Серега даже не шелохнулся. Точнее, его рука два раза покорно дрогнула от ударов пуль, стука железа в податливое человеческое тело.
Павла припекало пламя горевшего БТР. От машин, шедших впереди, бежали солдаты, слышались их возбужденные крики. Он вышел из-за огня, из-за зыбкого своего укрытия, держа палец на спусковом крючке автомата, точнее, он начал стрелять, еще только выскакивая из-за огня, но цель была так близко перед ним и враг был так не похож на врага, что он непроизвольно отвел ствол в сторону.
Автомат строчил, но вбок, а перед ним совсем близко, на противоположной обочине дороги стоял мальчишка лет двенадцати с выпученными от страха, ничего, кроме страха, смертельного животного страха не выражавшими черными глазами.
Рот у этого мальчишки был открыт, а глаза напоминали два ствола. Он был в цветастом, когда-то, видать, выходном, халате, а в руках держал хорошо знакомый Павлу наш автомат. Может, это еще сбило с толку?
- Ты что! - крикнул ему Павел, но это было совершенно бессмысленно. - Брось оружие, пацан! Брось!
Он все еще строчил при этом, и его голос был слышен лишь ему одному, но Павел не сознавал этого. Низ живота разрывал страх, ему казалось, что в смерти Сереги виноват только он, надо было оглянуться, увидеть этого пацана, прикрыть товарища, но он ушел за БТР и теперь обязан стрелять, обязан чуть-чуть повести стволом, дышащим смертью, вправо, и этих глаз, этого открытого, обезумевшего рта больше не будет.
Но он не сделал того, что был обязан сделать.
Он не повел стволом вправо.
Он кричал на этого ничего не понимавшего пацана, зная, что крик его не имеет смысла, но не убивал.
И тогда в глазах мальчишки мелькнула осмысленность. Может быть, ему показалось, что он выиграл. Он повел стволом своего автомата и рыгнул в Павла смертельной струей.
На этом все оборвалось для Павла. Включилась тишина.
Он пришел в себя после операции, увидев белые госпитальные потолки, возвратился к жизни, но так ни от кого ничего не смог узнать больше. Те, кто бежал ему на подмогу, были из других частей, чистые автомобилисты, другие машины их отделения шли в голове и в середине колонны, а из их экипажа уцелели Ашотик да он, так уж ему повезло.
Про мальчишку с автоматом, как это ни удивительно, он думал больше всего. Про убитых товарищей говорил с другими друзьями, с Ашотиком, а про мальчишку говорить было не с кем, этого пацана он видел один.
Один.
Его убийца. Только неопытность мальчишки да еще, пожалуй, его страх подарили Павлу жизнь, оставив под ключицей и под лопаткой две глубокие впадины от пули, прошедшей навылет.
Да, он думал о нем.
И чем дальше увозили его от этих проклятых гор транспортные самолеты, тем как будто ближе подступал испуганный мальчишка. Павлу казалось даже, что с течением времени он все явственнее видел его лицо, как будто тот приближался к нему.
На лбу у пацана блестели капельки пота, вспомнил он. И очень черные, густые, будто насурьмленные брови. Глаза - не карие, именно черные. Наверное, просто до предела расширены зрачки.
Откуда он, кто? Из засады, из банды? Верней всего. Значит, он знал, что хочет убить, думал о смерти другого человека, других людей... Но ведь он мальчишка, неужели не страшно? Нет, было страшно. Это Павел видел своими глазами. Может быть, останься он в живых после этой засады, страх выучил бы его, заставил бы бросить автомат и никогда больше, никогда не стрелять в другого человека... Впрочем, выбравшись из страха, люди быстро забывают о нем, особенно если они темны или неразумны.
Да, этот мальчишка, его несостоявшийся убийца, неотступно преследовал Павла, и он никак не мог отвязаться от этик вытаращенных черных, как два ствола, глаз, никак. Павел догадывался, может быть, даже точно знал, чем объясняется эта неотступность. Он не сумел выполнить свои обязанности, и он поплатился за это. Но мальчишка вряд ли жив. Смертью не играют - своей ли, чужой. Стрелять в людей, да еще в солдат - опасная забава. Но он, Павел, не виноват перед ним. Так что напрасно эти глаза преследуют его.
Но что ни говори сам себе, как ни внушай, какие только истины ни вдалбливай в собственные же мозги, это мало что дает
Глаза пацана, два этих ствола вместе с третьим - с черным зрачком автомата, преследовали Павла во сне и наяву.
Он не был виноват перед ним, это так, но чувство вины перед мальчишкой ни на час не оставляло его, и чем дальше отплывала его жизнь от боя, тем горше и безысходнее давила необъяснимая вина.
Павел не знал, как избавиться от того, что не отступает, но облегченно, необъяснимо для себя обрадовался, когда ему, вернувшемуся в родной городок, товарищ по школе, секретарь гор кома комсомола, сделал неожиданное предложение поехать на два года вожатым в лагерь на берегу моря.
Он согласился сразу, без колебаний.
*
Между ужином и отбоем был назначен «Вечер знакомств». Хоть от приезда до этого вечера истекали сутки, а то и вторые, хоть ребята уже и так присмотрелись друг к другу и многие перезнакомились, вечера эти всякий раз становились как бы стартом смены. Перед тем - всякая организационная суета, многочисленные объяснения и наставления, а настоящая дружеская жизнь начиналась с официального знакомства, уж так получалось.
Зеленые лавки под кипарисами соединяли в круг заранее, днем.
В час, когда сумерки еще только подступали к лагерю, когда было вполне светло, но горы уже набрасывали на побережье свои прохладные тени и пространство от земли до небесных глубин застывало на несколько недолгих минут, благостных, умиротворенных, разделяющих собой морской отлив от начала ночного прилива и легкие дневные бризы, дующие с прогретого моря в сторону берега, на бризы ночные, идущие в обратном направлении - в этот час покоя, призывающий к откровению и любви, усаживались кружком ребята в голубых пилотках, с красными пионерскими галстуками.
Каждый должен был встать и назваться, сказать, откуда он, как учится, чем увлечен и еще что-нибудь сказать, по усмотрению, нужное и важное для такого представления. Павел нарочно выбирал этот самый час, потому что незаметно он превращался в сумерки, а в сумерках, как известно, легче откровенничать, легче обсуждать сложные вопросы или читать стихи - в обычных сменах именно так и случалось; день шел к концу, а откровенность разгоралась, точно заря, и ребята долго не хотели расходиться, а потом, после отбоя, долго говорили в своих спальнях, не могли уснуть, и Павел Ильич Метелин в своем вожатском деле больше всего любил вот именно эти ночи, когда по десять раз требовалось зайти и сказать строгим голосом:
- Спать, всем спать!
И знать при этом, ощущать всей своей сутью, какая важная у ребят бессонница, как бесконечно щедра эта возбужденность, жажда немедленного узнавания другого человека, подобного тебе.
О дружбе и о любви наговорены горы слов, а ведь и дружба, и любовь начинаются с очень простого - с шага, который люди делают навстречу друг другу, с радости осознания, что этот другой похож на тебя и что ты интересен и дорог ему точно так же, как он тебе. Сон в эти вечера был подобен воде, которой нарочно гасят огонь взаимного понимания, но Метелин догадывался еще об одной важной тайне: сон в эти годы обладает способностью творить; огонь вспыхнувшего доброжелательства и интереса детский сон способен очистить от копоти суеты и житейских подробностей, сплавив порыв в драгоценный слиток необыкновенной чистоты.
Он любил приходить наутро к своим бойцам.
Они просыпались сразу все, каким-то волшебным залпом. Молчали секунду-другую.
Ах, как высоко ценил эти секунды Павел!
Ясные, чистые глаза, умытые сном, бесконечно счастливые улыбки блуждают по лицам, если сон - полет, то эти мгновения - благополучные приземления из мира грез и истовая жажда здесь, в реальности, жить вместе, вот этим дружеским кругом, подставляя друг другу плечо, немедленная готовность умереть за друга, если только возникнет малейшая - нет, не необходимость - лишь только намек на необходимость, непрощающая мальчишеская требовательность максимализма, если речь о чести, о любви, о верности.
Но перед этим просыпанием проходила ночь, а перед ней - час откровений, радость детского узнавания, и это всегда был праздник раньше...
На сей раз ничего не получалось. Не выходило, хоть лопни.
Павел оглядывал в кружок соединенные лавки, на которых сидели ребята и девочки, - пилотки опущены к земле или, напротив, неестественно вертлявы. Они с Аней походили сегодня на двух кучеров - понукают ребят, а все без толку. К примеру, как вот такую растормошишь - стоит бочоночек непробиваемый, что плечи, что пояс, этакая толстушка, хоть прежде чем приехать и прошла медицинскую комиссию, а сразу видно - толстота от нездоровья, наверное, врожденного, тут уж не пошутишь, и мальчишки дома, наверное, извели, всю издразнили, для нее это представление - кара Божья, того и гляди прилепят кличку - и все снова кувырком, даже этот месяц. Потому девчонка только и норовит как бы сесть, спрятаться долой с людских глаз.
Встала, назвалась невнятно, Аня даже вынуждена попросить, чтобы произнесла погромче свою фамилию, имя, повторила.
- Катя Боровкова! - И в кусты.
- Ты откуда, Катя?
- Псковская область, детдом номер два. - В каком ты классе?
- В пятом!
Снова села, ох ты, беда.
- Ребята, у кого-нибудь есть вопросы к Кате?
Тишина. Глупость какая-то, а не знакомство, сплошная натяжка, вожатская выдумка, разве сравнишь с обычной сменой - как там дети раскрываются.
- Леонид Сиваков, шестой класс школы-интерната города Смоленска, занимаюсь в авиамодельном кружке.
Ну хоть что-то! И ведь не спросишь про самое главное - про родителей.
- Леня, а ты кем хочешь стать, когда вырастешь?
- А че думать? У нас всех в ПТУ сдают. У нас рядом строительное ПТУ.
- И у нас!
- И у нас!
- И везде – строительные?
- Нет. У нас при ткацком комбинате.
Это Катя Боровкова.
- А у нас сельское ПТУ. Учат на трактористов.
Павел знает этого мальчишку, его зовут Гена. Сейчас как раз его очередь представляться.
- Геннадий Соколов, из Волгограда, детский дом номер три.
- Ну уж про Волгоград-то ты можешь рассказать нам что-нибудь интересное! - подбодрил его Павел.
- Могу, - улыбается Гена. Но рассказать толком ничего не может. Речь косная, знания - самые общие. - Волгоград - город-герой. У нас есть дом лейтенанта Павлова. Он его защищал долго. Там разгромили немцев.
Для шестого класса жидковато, но приходится похвалить:
- Молодец, Гена! Летчиком, наверное, хочешь стать, раз в авиамодельном занимаешься?
- Не-а! - бодро отвечает Генка и снова загоняет Павла в тупик. - Может, и хотел бы, да кто возьмет? Нервы у меня никудышные. Учусь, опять же, так себе.
В обычной смене такое признание немыслимо. Нервы! Какие нервы? Грохнули 6ы разом, иначе как шутку такие слова никто бы и не понял. А эти - молчат, никакой реакции, будто речь о самом обыкновенном. И про учебу. Обычная смена сплошь отличники. Ну, полуотличники... Речь - раскованная, дикция - превосходная, любого можно поставить ведущим концерт, не подведет, а эти говорят плоховато, мямлят, отличники - есть ли они, надо узнать, но ясно, что принцип отбора в такую смену - совсем иной. Так что вот, товарищ вожатый! Переучивайтесь! Точнее, учитесь заново. Невелика трудность работать с отличниками - каждому звуку твоему внимают, не то что слову. Раз сказал - и хватит, отставших, невыполнивших, зазевавшихся и просто непокорных подтянет, поддержит, окликнет твой актив, ядро отряда - продолжение твоих рук, твоих ног, твоих слов, твоей воли. Чем лучше смена, тем мощней, энергичней, боевитей такое ядро, тем короче хвост отстающих - все как 6ы тянутся вперед, в кучку, не котят выпадать из детского единства.
Тем только нельзя давать ухватиться за твой палец, хоть в малом, а усомниться в тебе, в твоих возможностях, способностях, праве быть впереди и выше их, хотя и далеко отрываться нельзя - чуть впереди, чуть выше и все-таки вместе с ними. Вожатый - как старший брат!
Для тех. А для этих?
*
Женя разволновался не на шутку. Впрочем, он знал, что выйдет из положения, видел, как немногословны другие, как скованно ведет себя остальной народ, и понимал, что можно поступить точно так же, и никакой Пим ему не страшен. Но все же он волновался - что ни говори, а предстать следовало перед живым кругом и сказать слова, между которыми не осталось 6ы щелей, не оказалось бы возможностей для расспросов.
Его очередь была одной из последних. Павел Ильич, - надо же, у них одинаковые отчества! - сидел слева от Жени через три человека, а подниматься, говорить о себе стали слева от вожатого, так что выходило, Женя в конце круга. Пим и красотка Аня всячески старались развеселить народ, велели рассказывать о себе подробнее, даже просили стихи почитать - кто что знает, но веселье и непринужденность никак не получались, ничего не выходило из этой затеи, и Женя чувствовал, как недовольны собой, своим сбоем вожатые.
А тишина, небывалая, немыслимая тишина тем временем кончилась, дунул легкий ветерок, зашевелил своими жесткими ветвями, зашуршал кипарис над головой, землю облепили сумерки.
Лица затушевала вечерняя синева, красные галстуки сделались темными, почти черными, только голубые пилотки, рубашки да шорты светлели еще пока, сливаясь в непрерывный во мраке круг, будто в пространстве невысоко над землей лежит большое, живое, слегка шевелящееся колесо.
Неожиданно Женя глубоко вздохнул, почувствовав освобождение. Он заметил, как вздохнули почти одновременно с ним его ближайшие соседи - и еле уловимый шелест пронесся по всему этому кругу.
- Ну! - сказал Метелин. - Смелее! Кто следующий?
Встала девчонка, но лица ее уже нельзя было разглядеть.
- Меня зовут Наташа Ростова, - сказала она каким-то недетским, грудным, глубоким голосом. - Мне кажется странным, что мы так боимся по-настоящему рассказать о себе.
Круг притих, перестал колебаться.
- Это, в конце концов, трусость, - сказала девчонка. - А чего нам трусить? Мы ничего ни у кого не украли. Конечно, мы живем совсем иначе, чем другие... детки, но нам трусить и стыдиться нечего.
Слово «детки» она произнесла с иронией, и Женя подумал, что Наташа подразумевает его. Зато круг шелохнулся одобрительно, соглашаясь с такой интонацией.
- Вот, например, я, - проговорила Наташа. - У меня нет ни матери, ни отца. Мой отец погиб от пули бандита, понимаете? Он мальчиком ленинградскую блокаду - и ту выжил. А тут... Он уже полковником милиции был, и вдруг ему сообщают, что бандит забрался в дом, решил ограбить жильцов, а когда его застукали, то есть... ну, обнаружили, стал стрелять! Из охотничьего ружья! Отец не хотел кровопролития. Он сел в машину такую, знаете, с синей моргалкой, приехал к дому, где бандит, по микрофону сказал бандиту, чтобы сложил оружие. И что за это ему смягчат наказание. И что если он согласен, пусть в окно вывесит полотенце.
Светлый круг уже совсем размыли сумерки, и чем темнее было вокруг, тем голос девочки звучал увереннее и громче.
- Ну вот! - сказала она. - Тут все и кончилось, понимаете? Бандит вывесил полотенце; отец пошел в дом первым, распахнул дверь, и прямо в грудь ему - выстрел. Мама у меня была сердечница. Она узнала о6 этом и умерла. Сразу же! Не сказав ни слова! А я была в детском саду. Оттуда меня передали в детдом. Ясно?
Женя сидел, сжавшись. Что это за девчонка? Ведь он так и не разглядел ее в сумерках. Видел, конечно, видел, но сейчас, в этом круге, не обращал на нее внимания, и вот какой, оказывается, есть среди них человек.
Ветер шелестел, перебирал кипарисовые ветви, но ребята сидели тихо, не шевелились, настала какая-то растерянность, Павел Ильич и его подручная красотка молчали тоже. Одна только Наташа Ростова не желала никаких пауз.
- Какие вопросы есть ко мне? - сказала она звонко, будто чему-то радовалась, чудачка. Только чему тут радоваться?
Вопросов ей не задавали, и вожатые молчали, ничего не говорили.
- Хорошо! - бойко сказала Наташа. - Раз вопросов нет, я прочту вам стихи. Я их сочинила сама. И посвятила тому бандиту, который убил моего отца, да, не удивляйтесь, именно ему. Называется – «Паразит». Слушайте!
Она на секунду умолкла, наверное, выбирая тон, каким будет читать стихотворение; вслед за своей биографией, конечно, этот тон должен был отличаться чем-то, но никакой перемены не произошло. Стихи она читала точно тем же голосом - возвышенным, приподнятым.
Две руки у тебя. А зачем?
Для чего тебе руки, скажи?
- Как зачем? Я ведь все-таки ем.
Надо вилки держать И ножи!
Две ноги у тебя. Две ноги.
А зачем? Ты ответить готов?
- Как зачем? Чтобы делать долги,
А потом убегать от долгов!
А глаза? Голубые глаза?
Для чего? Что ты видишь, ответь?
-Для чего? Чтоб тянулась слеза,
Чтобы люди могли пожалеть...
А спина? Что носил на спине?
Поднял в жизни когда-нибудь кладь?
- На спине? А зачем это мне?
Ведь спина для того, чтоб.., лежать.
Ну а совесть? Как быть тебе с ней?
Жить всю жизнь у чужого огня?
- Ну и что ж? Разве столько людей,
Одного не прокормят меня?!
«Врёт, что сама сочинила», - подумал Женя. Но круг бурно зааплодировал, и он захлопал вместе со всеми.
- Кто следующий? - каким-то хриплым, севшим голосом сказал Пим. Даже в темноте было ясно, что вожатый растерялся, не знает, что сказать Наташе.
Заговорил мальчишка.
- Меня, - сказал он, - зовут Владимир Бондарь. Мой отец служил на атомной подводной лодке. Случилась авария. Он умер от радиации, похоронен в Мурманске. Награжден орденом Красной звезды. Мама умерла от дизентерии.
- Что ты любишь? - слабым голосом сказала Аня.
Голос мальчишки переменился. То он был каким-то неестественным, деревянным. А тут дрогнул, затрепетал.
- Больше всего, - воскликнул мальчишка, - я люблю море!
Павел Ильич! Мы выйдем в открытое море?
Вожатый прокашлялся, проговорил бодро:
- Конечно, выйдем! Ведь не зря наша дружина называется «Морская»!
- А меня зовут Николай Пирогов. Я пра-пра-пра-правнук знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова. И мои родители были врачи. Они уехали в Африку помотать больным неграм. Но оба заразились неизвестной болезнью. И прямо там, в Африке, померли. Я тоже буду врачом! И тоже поеду в Африку!
- Ты молодец, Коля, - сказал затвердевшим голосом Павел Ильич. - Ты настоящий молодец, Пирогов!
- А я, между прочим, тоже Ломоносов! - раздался в темноте тонкий голосок, и все засмеялись. Владелец голоска не обиделся, засмеялся вслед за остальными, а потом воскликнул: - Не верите, что ли? Ну посмотрите мои бумаги. В них все прописано. Я из Архангельска. И родом из села Холмогоры. Так что если хоть на тройку тянете по истории, можете сами подтвердить: там родился мой далекий предок. Михаил Васильевич! А я всего лишь Степан. Но тоже Ломоносов. Мы жили в колхозе. Только не в обыкновенном, а в рыбацком. У нас там рыбацких колхозов много. Суда свои. Килечку-то, небось, любите? Ну вот, мы из рыбаков. Ну, а рыбаки, известное дело, тонут. Целыми баркасами. Мамка с батяней и утонули. А бабушка потом преставилась. Я как раз море не люблю. Хочу выучиться на шофера.
Потом невидимая во тьме девчонка рассказала, что отец ее был егерем, а среди лесов, которые он охранял, на озерах селились лебеди, и вот лебедей стали стрелять браконьеры, егерь этот браконьеров настиг, хотел отобрать ружья, и тогда его убили.
Женя слушал ее и ловил себя на мысли, что он знает это, где-то, кажется, читал. А может, про ее отца и писали, решил он, и запомнил имя девчонки - Соня Морошкина, чтобы подойти потом, спросить.
С каждым новым рассказом приближалась очередь Жени. Но с каждым новым рассказом нарастало невидимое, отчетливо уловимое возбуждение. Круг, ставший едва заметным во тьме; шевелился, разрывался, снова сливался. Возбуждение передалось и ему.
Женя снова и снова думал о том, что должен сказать. Точнее - о чем надо умолчать. Ничего себе задачка! Умолчать требовалось все! Абсолютно все!
«Вот 6ы брякнуть им правду, - пришла ему безумная мысль. - Рассказать про ОБЧ, у которого есть почти собственный самолет. Про ма по кличке Пат. Что было 6ы, интересно знать, что бы произошло? Ну и забаву же выбрал себе!»
Он волновался, ощущая волнение круга, реактора, соединенного из живых детских тел, из голубых рубашек, шортов, пилоток, из белых, не загорелых пока ног, и не мог понять самого главного - причины общего возбуждения. Он только чувствовал. Лишь ощущал.
Он думал о себе, думал, как выкарабкаться из затруднения. Но каждый, кто тут сидел, тоже думал о себе. Это была странная, вполне взрослая игра. В реакторе детских душ разгорались невидимые миру страсти. Каждый вспоминал себя. Думал о себе. И еще - о своих близких. Шорох превращался в гул. Страсти были плохо управляемы в этом реакторе. Они рвались наружу. Говоривших почти не слушали. Павел Ильич был вынужден крикнуть:
- Тише! Тише!
Когда Женя поднялся, ему помогли сказать. Вернее - не сказать.
Не напрягая голоса, не стараясь перекрыть шум, он проговорил:
- Я учусь в шестом классе. Занимаюсь в секции плавания. Люблю читать книги. Увлекаюсь радиоаппаратурой.
Тут же поднялся его сосед. Потом девчонка. Потом еще один пацан.
Александр Макаров приходился дальним родственником русскому адмиралу, Полина, фамилию Женя не разобрал, была дочкой монтажника, который геройски убился при строительстве Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, а у Джагира все погибли во время землетрясения где-то в Средней Азии. На этом мука кончилась.
С каким-то стоном круг распался, и напрасно кричал бодрые слова вожатый Метелин - его никто не слушал, народ бурлил, но вовсе не обсуждал услышанного, напротив, казалось, все хотят поскорее забыть то, что только узнали, - мальчишки толкались, смеялись, говорили о разной ерунде, девчонки, понятное дело, не отставали от них, и выходила полная неразбериха, настоящий ералаш, который состоит из пустых, ничего не значащих фраз, смешков, ужимок, возгласов, восклицаний, шуток и прибауток. Каша, только варится она не из крупы, а из ребят.
Женя отошел в тень кипариса, потом отшагнул еще глубже, повернулся и побежал к морю.
С воды тянуло очищающей свежестью, приятно пахло гнилыми водорослями. Бриз нагонял волну, мелкую, но частую, и она часто, в такт сердцу плескалась о сваи пирса.
«Зачем я полез сюда?» - прошептал себе Женя.
Его собственная жизнь совершенно не походила на жизнь этих ребят, и он прекрасно мог не знать о6 их существовании. Ведь есть же в науке непересекающиеся плоскости, вот и он мог бы себе жить, вовсе не пересекаясь с этим народом, пусть это сплошь дети геройских родителей.
Его родители, его па и ма вовсе не геройские люди, вполне обыкновенные, хотя, может, и влиятельные в своем роде, а главное - они живы, и это отделяет его от здешних ребят. Они живы, и слава Богу, что же теперь ему, винить себя за то, что они живы, винить себя подвигами павших родителей этик ребят? Какая-то выходила путаница. Неразбериха.
Ясно одно: играючи исполнить свою роль ему не удастся. Уже сейчас он чувствовал себя напряженным, расстроенным
Как с этим сладить? Не замечать? Плюнуть? Махнуть рукой? Пропускать мимо глаз эту ребятню, девчонок и мальчишек? Но это же невозможно! Их так много в отряде, не говоря про дружину! Про весь лагерь!
Женя вздохнул. Да, вмазался, нечего сказать!
Возле спален слышались восклицания. Вожатые загоняли народ спать. Лучше не привлекать внимания к своей персоне.
Женя вздохнул, поднял три камушка на прощание и кинул их в море, стараясь, чтобы вышли блинчики.
Первые две попытки не удались. Только третий заплясал по поверхности. Значит, еще ничего, не так плохи дела.
*
Павел погасил свет в спальне, вышел в прихожую, присел на скамеечку возле телефона.
Как все непохоже! Никакого возбуждения, даже вялость. Покорно разделись, легли - тихи, молчаливы. А какие трагедии! Какие судьбы! Как теперь он должен обращаться с ними, разговаривать? Хочешь не хочешь, а в подсознании всегда будет этот фон. Говоришь с одним, командуешь другому, просишь третьего, а услужливая память всякий раз тебе - нате! - их трагедии вытаскивает. Не дрогнет ли твой голос, товарищ вожатый, не захочется ли тебе вдруг изменить правилам и традициям, не ударишься ли ты в жалость - а ведь жалость, утверждал классик, унижает человека. Дверь в спальню он притворил неплотно, был возбужден - взрывом откровений, даже насторожен, поэтому хорошо расслышал слова, сказанные в полумраке спальни, и явственно различил голос Генки.
- Ну что, свистуны, - сказал Генка, - довольны?
Кто-то неуверенно хихикнул.
- И сами, небось, поверили в собственный свист?
- Какой свист? Какой свист? - Это был голос Пирогова.
Но Генка опять рассмеялся, только теперь его смех звучал напряженно.
- Пирогов! Ломоносов! - кого-то передразнил он. - Тоже мне! А правнуков Пушкина тут нет? - Он изменил голос, сказал пискляво: - «Я помню чудное мгновенье!»
Теперь в спальне рассмеялись свободно, будто даже облегченно, только Пирогов не сдавался, да слышался голос Ломоносова: - Зря дразнишься! Зря!
- Я не дразнюсь! - сказал Генка. - Я вас разоблачаю, врали несчастные!
- Вот тебе! - воскликнул Пирогов, и Павел услышал удар подушки.
- А-а! - воинственно воскликнул Генка. - Правда не нравится!
Две-три секунды, и в спальне открылась бойкая канонада. Народ сражался подушками, они хлопали друг о друга, издавая тугие звуки, перемежаемые ребячьим кряхтеньем и междометиями.
Павел возник в дверях, при свете слабой дежурной лампочки окинул взглядом подушечье побоище, кинулся к выключателям, врубил главный свет.
Битва прекратилась - на кроватях, в проходах между койками и в главном проходе замерли мальчишки в трусах - все с подушками. Мгновение они еще смотрели на Павла, возникшего будто строгое привидение, а в следующую секунду уже лежали под одеялами. Все, кроме двоих. Эти двое продолжали биться, словно рыцари на ристалище. Мутузили друг друга подушками посреди спальни, усталость уже давала себя знать, да и подушки все-таки что-то весили, поэтому почти после каждого удара бойцы валились набок или, по крайней мере, их шатало, удары слабели, но ярость - ярость не исчезала.
- Прекратите! - крикнул Павел. - Прекратите!
Пришлось подбежать к рыцарям, встать между ними, ухватиться за подушки - их оружие.
Противники остановились, тяжко дыша, в глазах их светилась неподдельная ярость. Подушка Генки была вымарана кровью, а на носу Пирогова алела царапина - то ли оцарапала обломанная пуговица от наволочки, то ли еще за что зацепился в пылу боя.
- Что происходит? - крикнул Павел. - А ну в постель!
Генка нехотя ушел к себе, Пирогова же пришлось повести в умывальник, прижечь царапину перекисью водорода.
Колька сопел, на попытки Павла заговорить с ним не отвечал. Он отступился - впрочем, толковать было не о чем. Все и так ясно: они врали. Врали!
Павел отправил Пирогова в постель, прошел по спальне, нарочно не сдерживая, не приглушая шаги, объявил, чтобы никто не прослушал:
- Спать! Я в прихожей!
И притворил дверь, на этот раз плотно.
Он не успел присесть, как ворвалась Аня.
- Павлик! Помоги! - шептала она, а ее глаза светились отчаянием.
Павел выскочил вслед за напарницей в коридор, кинулся рысьими шагами по полутьме и едва не пробежал мимо девчонки, стоявшей в трусиках и майке с видом независимым и спокойным.
- Вот, полюбуйтесь! - заговорила возбужденно Аня. - Так называемая Наташа Ростова!
- Ну и что, - ответила девчонка. - Я же вас выручала!
- В чем дело? - спросил Павел, разглядывая девочку.
Была эта девочка красива, но в красоте ее уже исчезла детскость. Павел испытал острое сожаление от пришедшей ему мысли: девочка похожа на цветок ранней вишни, такой цветок распускается раньше других, и в этом есть какой-то риск природы, неосторожность поспешности, ведь если весна дружная, равная, то все хорошо будет, первые плоды даст именно эта вишня, а если ударят заморозки - вот тут-то и скажется риск поспешания, замерзнут лепестки, и куст останется бесплодным.
Павел почувствовал какую-то опасность в этой девочке, в этой ее красоте. Губы полные, припухлые, налитые малиновой яркостью, брови вознесены высоко, и оттого кажется, что девочка смотрит надменно, презрительно, будто она хоть и ребенок, а гораздо старше многих взрослых, на щеках утонченный румянец - им покрыты только скулы, и эта розовость тянется к вискам, глаза карие, бархатные, очень глубокие, взгляд отводит, будто боится встретиться - но не за себя боится, а за того, на кого смотрит...
- Вот! - продолжала Аня голосом возбужденным, переполненным неясной страстью, и Павел вдруг подумал, что Аня ярится неспроста, что тут есть еще какая-то дополнительная причина, кроме вины девчонки. Может, эта ранняя зрелость бесит ее?
- Вот! - повторила Аня. - Я сразу поняла, что тут что-то не то! Нет у меня по списку Наташи Ростовой! Есть просто-напросто Зина Филюшкина! И когда я стала объяснять ей, мол, врать - стыдно, она мне сама же откровенно сказала, что и остальное все выдумка.. Про погибшего геройски отца! Про мать, которая умерла!
- Ой, что вы говорите! - снисходительно рассмеялась девочка. - Врать - стыдно! Да врать, если хотите, полезно. Я же вам хотела помочь. Видели, как все ребята сразу ожили! Они-то меня поняли!
Она совершенно не смущалась, эта Зина Филюшкина, говорила смело, уверенно, как там, на улице, только вот глаза всё отводила.
И всё-таки она посмотрела на Павла.
Этот взгляд обжигал - столько было в нем взрослой нетерпимости и еще - ненависти. Губы Зины улыбались, а глубокие бархатные глаза с недоуменной ненавистью взирали на Павла, на одного из двух взрослых и вроде бы разумных людей, пытающих еще одного, третьего, человека, который стоит тут перед ними, как дитя - в трусах и майке, словно на какой-то стыдной экзекуции.
Врать - полезно, - сказала Зина Филюшкина твердым, уверенным тоном. - Врать - замечательно. Врать - необходимо.
Произнося нравоучительно эти слова, девочка повернулась и неторопливо пошла к спальне.
- Как ты можешь?! - воскликнула в ярости Аня, но Павел остановил ее, взял за локоть, чтобы она не натворила глупостей, не кинулась вслед за Зиной.
Девочка даже не заметила этого восклицания.
Она полуобернулась и спросила:
- А вы что хотите, чтобы я сказала правду? От этой правды будет несладко.
Зина остановилась, опустила голову и, не оборачиваясь, не меняя голоса, все так же уверенно и снисходительно сказала:
- Все я правильно рассказала, только отец мой не полковник из милиции, а тот самый бандит!
И двинулась вперед все тем же ровным шагом.
*
Проснувшись, Женя испытал острое чувство одиночества.
Народ жил неровной утренней колготнёй - один едва только потягивался, зато другой сосредоточенно мчался по неотложным делам, всем своим видом даже уходил в важную заботу - не замечая окружения, его издевок и усмешек; третий уже бодро бил кулаками в бока подушки, взбивал ее, и она становилась шире и сдобнее, чтобы украсить этаким помпончиком строгую пионерскую кровать; четвертый надевал шорты, пятый пытался сделать стойку на голове прямо в постели, но это у него плохо выходило, и, поддразниваемый соседом, он снова и слова грохал ногами по матрацу так, что звенели пружины. Сколько было ребят в палате, столько было и движений, жестов, действий, забот, и все это, производимое в строго ограниченные минуты, образовывало хаос, который тем не менее был упорядочен конечной целью, результатом, когда все кровати оказывались более или менее аккуратно заправленными, а сами ребята готовыми к зарядке.
Один Женя лежал, бесстрастно наблюдая утреннюю суету, не двигаясь с места и испытывая неведомо откуда накатившую тоску.
Что, собственно, случилось, попробовал он спросить самого себя, попытался разобраться в собственных чувствах, но послушного ответа не приходило, как являлись они прежде, пусть ложные, из каких-то темных, почти океанских глубин собственной души, но верные и надежные, точно преданные слуги.
Душа эта, пожалуй, даже растворилась шире нынешним утром, чем всегда, но и только - из нее веяло сухостью и пустотой, было как-то мелко там, в душе, точно он топчется в нечистой лужице и никак не хватает духу ступить дальше...
Неожиданно утренний хаос, окружавший его, показался Жене чем-то единым и бодрым, но эгоистично не приемлющим его, не замечающим одного мальчишку, который лежит и лежит себе в постели, а остальным нет до него никакого дела. Колготня оплывала его, точно стеарин тающей свечки, обходила, всеми силами подчеркивала его одиночество, его непохожесть на остальных.
Наконец он приказал себе подняться, едва шаркая ногами принялся двигаться, влился в общий хаос. Это не помогало. Тяжелое настроение, какой-то мрак подавляли, душили, наклоняли голову.
В детстве человеческие настроения меняются часто, порой достаточно слова, даже дружелюбного взгляда вполне хватает, чтобы жизнь помчалась скорее, точно парусный кораблик в весеннем ручье, погоняемый теплым ветром.
Женя двигался рядом с Генкой в строю к столовке , и Генка бодро о чем-то болтал, ему улыбались просто так, без всяких причин, как одному из многих, как одному из этого равного братства, но слова и улыбки словно бы рикошетили от Жени и вовсе не радовали его, потому что они принадлежали не ему, а кому-то другому, пусть в его, Женином, обличье - да, ему улыбались, как одному из них, а он был совсем другой. Он был чужак...
, и Генка бодро о чем-то болтал, ему улыбались просто так, без всяких причин, как одному из многих, как одному из этого равного братства, но слова и улыбки словно бы рикошетили от Жени и вовсе не радовали его, потому что они принадлежали не ему, а кому-то другому, пусть в его, Женином, обличье - да, ему улыбались, как одному из них, а он был совсем другой. Он был чужак...
После завтрака двое мальчишек и две девочки должны были в первый раз дежурить на спасательной станции, и Женя обрадовался, что его напарником стал Генка. Они шли хоть и не в ногу, но все-таки строем, впереди, в пяти шагах, - девчонки, громко говорившие между собой, и по голосу в той, что повыше, Женя узнал вчерашнюю Наташу Ростову.
Он еще не читал «Войну и мир», но фильм по телевидению он все же видел, один лишь раз видел, и это имя - Наташа Ростова - было ему знакомо.
Женя шел, вглядываясь в затылок и длинную шею Наташи, а Генка балабонил себе, восхищался морем. Вторая девочка была толстушка Катя Боровкова - ей все никак не шагалось спокойно, она оборачивалась, отходила в сторону, норовя пропустить мальчишек вперед, но Наташа, которая была выше Кати, брала ее за руку и притягивала к себе назад.
На спасательной станции всегда дежурил быстроходный катер, а при нем существовала команда из двух или трех взрослых парней, на дне катера лежали акваланг и маска на случай, если надо будет доставать кого-нибудь прямо с морского дна, а дежурным пионерам полагалось смотреть вдоль пляжей, наблюдая, не заплывает ли кто за предупредительные буи. Всем четверым раздали бинокли, но кроме этого, на верхней площадке стоял большой наблюдательный прибор с огромными линзами, который крутился во все стороны и сквозь который было видно еще дальше, чем через бинокль.
Командовал всеми «старик Хоттабыч», так сразу обозвал этого деда про себя Женя. Длинный, сухощавый, с редкой бородкой, того и гляди скажет: «Тох-тибидох-тибидох!» Но разница все же была. Старик этот говорил голосом не дребезжащим и скрипучим, как у Хоттабыча, а на редкость молодым, задиристым и бодрым.
Что ж, наблюдать так наблюдать!
Первое время все четверо даже молчали от напряжения и внимательного наблюдения. День был волшебный, все дружины купались, полно народу и на пляже для персонала, поэтому требовалась повышенная бдительность, как объяснил Хоттабыч.
Женя разглядывал разноцветные шапочки на бирюзовой поверхности воды, потом оглядывал фигурки на пляже, поднимал бинокль выше, к кипарисам, к вершинам гор, к небу.
То и дело в перекрестие бинокля влетали чайки, приближенные оптикой. Женя вглядывался в головки птиц, в их глаза. Ветер легко держал размашистые, искусно сделанные крылья, птицы парили, казалось, без всяких усилий, а налетавшись, садились на воду. Одна чайка приблизилась совсем близко к Жене, зависла прямо перед наблюдательной вышкой, прямо перед биноклем, и он вздрогнул от взгляда чайки - она посмотрела внимательно на него и очень приветливо, чистенькая, доброжелательная птица поглядела сначала одним глазом, потом, повернув голову, другим, и Жене неожиданно показалось, что это прилетела Пат и спрашивает его, как он живет.
Ма, па, бабуленция! Это надо же, он еще ни разу не вспомнил их по-человечески. Нет, он все же думал о них, но как-то мельком, между прочим, каким-то задним сознанием, а так, чтобы поговорить с ними, вспомнить как следует их привычки, их слова, их поступки...
В конце концов он летал по стране не раз без всякого родственного сопровождения, и в Москве был, там его встречали друзья па, и в пионерском лагере комбината под Сочи, и там он скучал тоже, если судить честно. Но он всегда был уверен в себе тогда, хотя и лет ему было меньше, чем теперь. А сейчас - что с ним происходит? Почему ему так неуютно? Почему он не уверен в па и Пат, и даже вот в чайке померещилась ма с ее сумасшедшей доброжелательностью.
- Курнуть бы! - сказал за спиной Генка, и Женя опустил бинокль.
- Ты куришь? - не скрывая своего возмущения, спросила Катя.
- Эх вы, детвора! - вздохнул Генка, усаживаясь на лавочку и закидывая ноги в кедах на самую верхнюю поперечину железной оградки вышки.
- Да и я бы не против, - сказала Наташа Ростова.
Теперь настала пора удивляться Жене. Он посмотрел на девчонку внимательнее и перехватил ее нахальный, вызывающий взгляд.
Она была красивой, эта дочка героического отца, но красота ее не понравилась Жене. Эти яркие губы, яркие глаза были какими-то преждевременными для двенадцати лет. И грудь у нее была слишком взрослой, очень уж пышной для таких пионерских лет.
Женя отвел взгляд первым - она продолжала нахально таращиться, разглядывая его.
- Наташ! - спросил Генка свободно, ни чуточки не смущаясь, - вот уж они-то были одного поля ягоды. - Чего это ты вчера врать взялась?
- Ишь какой догадливый! - неожиданно взъерепенилась девчонка. - Меня, между прочим, Зиной зовут.
- Вона как! - восхитился Генка. - И тут наврала!
- Запомни! - по-взрослому наставительно проговорила Зина-Наташа. - Вранье полезно, потому что оно помогает людям. Вот ты небось ни разу не соврал?
- Я-то? - захохотал Генка. - Да разве можно прожить без вранья?
- То-то же! - всё так же наставительно, будто учительница, которая наконец-то дождалась правильного ответа от обалдуя-ученика, сказала Зина и снова вытаращилась на Женю. - А ты Кать? - спросила она, не отрываясь от Жени и не дожидаясь ответа, произнесла колючим голосом: - Зато вот Женечка у нас никогда не врал! Невинное дитя!
Женя вспыхнул, опустил бинокль и пристально посмотрел на Зину. Чего-то она хотела от него, чего-то добивалась и при этом не знала никакого неудобства, никакого стыда. Нахалка какая-то!
Жене хотелось что-нибудь брякнуть в ее стиле, но он сдержал себя: ведь это означало стать с ней вровень, связаться с девчонкой! Это было не в его характере.
Не отводя взгляда от Зининых глаз, он избрал самое верное: задачу.
Всяких там нахалов и нахалок надежней всего отшить, задав простенькую задачку на сообразительность.
- Как ты думаешь, что будет, - сказал он спокойным, даже чуточку усталым голосом, - если сейчас закричать: «Человек тонет!»? А в самом деле - никто не тонет.
- Будет дурость! - уверенно воскликнула Зина.
- Верно, дурость! - кивнул Женя. - А если человек начнет тонуть на самом деле и ты не крикнешь, не поднимешь тревогу?
- Подлость! - вскипела Зина.
- Вот видишь, - сказал Женя, - что получается? Дурость и подлость. И ты возмутилась! Сперва дуростью! Потом подлостью! Но ведь в том и другом случае - это вранье! Выходит, вранье тебе не нравится?
- Вот здорово! - засмеялась Катя.
- Как он тебя воспитал, а? - прибавил Генка.
Зина залилась румянцем, глаза ее прямо заполыхали.
- Кто-то тут про детвору разорялся, - сказала она отвердевшим, вовсе не девчоночьим голосом. Кивнула Генке, не глядя на него. - Ты, кажется?
Она все смотрела на Женю, никак не отводила глаза, ему показалось, еще немного, и Зина вцепится в него. Но это было бы по-детски. Так поступает детвора. Зина же говорила взрослые вещи.
- Может, ты и умный, - говорила она жестким, напряженным тоном, - но твои примеры - для детворы! Понимаешь меня, умник? Ты вот лучше скажи-ка мне: кто твои ближайшие предки? Как поживают? Где они?
Она поднялась. Ее тело напряглось.
- В тюряге? Спились? Их лишили родительских прав? Или их вообще нет у тебя? И ты - дитя народа?
Она истерично захохотала, и Катя Боровкова бросилась к ней, обняла ее, хотела усадить на место, но Зинка вырвалась, крикнула Жене:
- Чего молчишь? Скажи! Скажи, правдивый человек.
И тут заорал Генка.
Странное дело, он смотрел то на Зинку, то на Женю, а орал совсем невпопад:
- Тонет! Человек за бортом!
Возник Хоттабыч. «Тох-тибидох». Вознесся по волшебному мановению с нижнего этажа:
- Где? Где?
Катер со спасателями уже тарахтел внизу, давал круги вокруг вышки, будто застоявшаяся гончая перед охотой.
Генка протянул руку вдоль пляжа, Хоттабыч припал к прибору с огромным глазом, лихорадочно покрутил его, потом разогнулся и спросил всех сразу:
- А за ложную тревогу знаете, что бывает?
Генка помотал головой.
- Га-упт-вах-та! - по слогам произнес Хоттабыч и поднял палец.
Странное дело, он не разозлился и не заорал. Внимательно посмотрел на Генку, на Катю, на Женю. Взял за плечо Зину, сказал:
- Ребята, бросьте вы в самом деле! Посмотрите - какая красота кругом! Или вам море уже надоело?
Он перегнулся через перила, крикнул спасателям:
- Отбой!
Винтовая лесенка, по которой он уходил, походила на воронку, и в этой воронке длинное тело Хоттабыча убывало медленно, будто он не проходил в узкое горлышко. Когда над поверхностью площадки осталась одна голова, старик повернулся к ребятам и погрозил пальцем. Ребята рассмеялись. Кроме Зинки.
Та стояла все еще разъяренная, глаза ее опустошенно смотрели на берег, и Женя подумал, что эта девчонка чем-то похожа на вожатую Аню. Такая же тигрица, только маленькая пока, да еще незагорелая. Вырастет, будет точно такой.
А Зинка повернулась к нему и сказала:
- Хорошо. Будь по-твоему. Сегодня перед отбоем снова устроим вечер знакомства. Только настоящий. Все скажут правду!
*
Прежде Павел никогда не чувствовал времени - ни бега его, ни остановок, просто мысли о6 этом не приходили ему, как не думает о сердце абсолютно здоровый человек, и только после ранения, очутившись здесь, в лагере, он начал ощущать тянущую, сосущую под ложечкой тоску, испытывать непостоянство происходящего, временность окружающего. Конечно, к этому подталкивала необжитость холостяцкой - на двоих - комнатки, вроде и обставленной достойно - лагерь все-таки был солидный, детская здравница, - а все же холодной, неуютной, без души, да и когда тут завязаться уюту, коли помещение это, комнатка, предназначена только лишь для сна, исключительно для отдыха, когда валишься в кровать, не чуя ни рук, ни ног, поздно вечером, чтобы вскочить через шесть часов - не проспавшись, не вытолкнув из себя бесконечной физической усталости - и бежать дальше, подтолкнув в себе отяжелевший маятник: давай, давай, некогда расслабляться, вчера ночью ты ушел от едва угомонившихся ребят, чтобы поутру быть возле постелей в последние мгновения их сна...
Да, эта гонка - она способна превратить вожатого в механизм, а если к тому прибавить, что в вожатстве всесоюзного лагеря есть своя заданность - один и тот же спектакль ставится всякую новую смену - с прологом, когда рекомендуются такие-то и такие-то, вполне определенные слова и подходы, с развитием сюжета, где занятия, купание, сборы, вечера, стенгазеты, походы, способные оказаться похожими друг на дружку, точно близнецы, только захоти этого, - а такой технологизм не возбраняется, напротив, это поощряется и даже имеет научное название: методика работы в пионерском лагере, - так что только пойди на это разок, другой, и ты станешь хваленым всюду профессионалом - органчик, в двадцать пять, в тридцать лет симулирующий пионера, этакий мордоворот в коротеньких штанишках, с галстуком на груди и оптимистической дурацкой физиономией, не меняющей брызжущего радостью выражения ни при какой погоде. Так сказать, щедринский персонаж новых времен. Еще и сил сколько надо, чтобы не сковырнуться на профессионала - нет страшней этого слова применительно к детям. Пусть уж лучше оказаться посмешищем у лагерных мастеров, только 6ы не взялись высмеивать тебя ребята. Самое страшное наказание - усмешки ребят над вожатым. А из всех возможных усмешек - тайный смех и невидимые издевательства.
Павел видел и, увы, не раз, как беленятся взрослые люди, узнав, что дети передразнивают их! Ах, сколько ярости, сколько несдерживаемой злобы и наотмашь хлещущей мести в проявлении этого стыдного чувства! Уязвленное человеческое самолюбие прежде всего вспоминает не о справедливости, не о собственных ошибках, а о неравенстве - да, да! О неравенстве взрослого и ребенка, когда дитя поперед всего должно помнить, что оно дитя и всего лишь дитя! Что между правами взрослом и ребенка о правах ребенка надо думать в последний черед, потому как у взрослого прав всегда больше, и нет, не может быть никаких обстоятельств, выравнивающих взрослых и детей, даже такого обстоятельства, как справедливость! Да, не раз и не два видел Павел взбешенных вожатых, испытывая чувство горестного стыда за весь взрослый мир, перед малышом с опущенной головой, которого распекал разъяренный мужчина или, того страшней, разъяренная женщина с пионерским галстуком на яростно колышущемся бюсте, и малыш этот имел только одно право - право опущенной головы, право жалкого лепета, детских слез, право невозражения - даже жестом, не то что словом. Как скоро, как поспешно рушились копеечные взрослые мостики, как стремительно возводились стены между взрослыми и детьми, и делали это все те же мужчины и женщины, которые еще вчера со слезами в глазах утверждали, будто пионеры и они, вожатые, одно целое, один отряд, одна дружина и беда каждом - это беда всех, а радость общая предназначена каждому из пионеров, и в этом новом единстве - все товарищи и все равны, взрослые и дети.
Потом, на собраниях, Павел с яростью и даже злобой бросался на детских распекаев. Формально его поддерживали, мол, да, если ребенок передразнил вожатого, значит, виноват взрослый. Но эта ясная мысль всегда окружалась частоколом оговорок: и все-таки детям нельзя потакать, их надо воспитывать, требуется строгость, да еще какая! Но Павел не унимался, и постепенно с ним перестали спорить и стали просто побаиваться: ведь он был фронтовик!
Эта аргументация постепенно дошла до него, и он жутко расстроился. Что же, выходит, раз фронтовик - значит, полоумный, скаженный, не в себе? Ненормальный, что ли? Впрочем, скоро ему передали еще одну кличку, придуманную вожатыми-девчонками. Его, оказывается, прозвали комиссаром полиции нравов. Явное влияние зарубежного кинематографа, который обожали взрослые гражданки с пионерскими галстуками на груди. Он расхохотался, узнав о новой кличке, и успокоился, решив, что взрослые распекаи - тоже временная беда, как и этот лагерь для ребят, все-таки чудесный, сказочный, волшебный, где эти распекаи встречаются, конечно, но все же не так уж часто, и Павел, пока он тут, не даст им житья... Пусть боятся фронтовика и комиссара полиции нравов.
А все же больше всего раздражало, вселяло ощущение непостоянства, а отсюда и временности его, Павла, участие в этой жизни, рваность знания, что ли, детских судеб. В школьных характеристиках, в рекомендациях дружин - почти ничего, кроме расхожей фразеологии - еще один взрослый грех; это же надо научить ребят такие составлять бумаги, впрочем, большинство документов хоть и написано детской рукой, но под учительскую диктовку - еще хуже! - и из этих словесных пустот, из этих наборов общих пассажей ничего про живых ребят не узнаешь, и вот получается явная дребедень - приезжают дети в лагерь, возбужденные, счастливые, однако же непростые - кто теперь прост и сразу ясен? - и с ними приходится с ходу работать, сбивать в коллектив приехавших из разных мест и ничем не объединенных, и вот в считанные, можно сказать, часы, изволь их соединить, да еще так, чтобы вышло не просто хорошо, а здорово, чтобы дружина работала точно новенькие часы, без всяких остановок, ЧП, дни летят, и только к концу смены тебе удается если не узнать до конца, то хотя бы почувствовать своих ребят.
Павел сознавал: это чувствование много значит для самих детей. Дома у них осталось всякое, а тут это всякое как бы забыто, и всем выдан чистый лист - пиши себе заново, пробуй, никому тут, в этом радостном лагере, нет дела до твоих прошлых прегрешений, как, впрочем, и заслуг и достижений - все можно и нужно начать заново, и тот, кто стоит чего-то сам по себе, может подтвердить собственные домашние заслуги - пожалуйста, а если у тебя не выходило раньше - давай-ка попробуй здесь!
Все равны тут перед морем, перед ясным мальчишеским товариществом и перед вожатым, если он смотрит на тебя, подбадривая. Но к этому требовалось еще прийти. Через долгие, перегруженные событиями дни смены. Конец, а особенно расставание возмещали многое, в конце Павел всякий раз явственно ощущал, что начальная недостаточность знаний о детях только помогала ему - помогала относиться ко всем без предвзятостей, без предубежденности, это равенство выпрямляло и ребят, некоторые самолюбцы, всякие там сверхотличники и суперактивисты порой обижались, даже шлепались, больно ударялись своими самолюбиями о гранит равноправия, который был верховной истиной в отряде Павла, но это оказывалось благом для них же самих, всем приходилось утверждаться сначала и на равных, так что справедливость торжествовала без всяких там сегрегаций.
И все же всякий раз в начале смены Павел испытывал острую недостаточность знаний о ребятах, доверенных ему лагерем.
И еще одна мука преследовала его: тот маленький афганец с автоматом в руках. Тот маленький покойник, чей прах зарыт неизвестно где. Мальчишка с автоматом нет-нет да являлся к Павлу в его усталые сны, и Павел просыпался снова раненым.
В то утро он опять со страхом выскочил из сна, спасаясь от черного зрачка автоматного ствола. Впрочем, как-то он все же знал, что это сон, испытание не повторится, хотя автомат направлен в его сторону, и единственное, за что он боялся, так это за мальчишку, изготовившегося к стрельбе.
Стряхивая с себя наваждение, оглядывая комнату, всматриваясь в море, которое шелестело, посверкивало за тюлевой занавеской змеиной живой кожей, он решил, что на этот раз должен позвонить в один, другой, третий детский дом и узнать побольше про ребят из необычной смены.
*
После вахты на спасательной станции полагалось вернуться в отряд, доложить дежурному о прибытии и жить дальше по общему плану, но, как только они сошли на пляж, Зинка сказала:
- Давайте удерем!
- Куда тут удерешь? - удивился Генка.
- Зин! - проканючила Катя. - Еще выгонят!
- Нас не выгонят! - уверенно усмехнулась Зинка. - Пожалеют. А удрать всегда есть куда! Если вы не трусы.
Она говорила всем, а смотрела только на Женю, и ему стало неожиданно жарко от этого до нахальства прямого взгляда.
- Конкретнее! - попробовал он осадить эту наглую Зинку. - Куда бежать, в самом деле? Вокруг забор.
Но Зинаиду было совершенно невозможно сбить с толку, она уже, похоже, раскусила главный Женин прием, его видимое хладнокровие, рассудительность, с помощью которой у людей, стоящих на ногах нетвердо, отбивают всяческую спесь.
- Как куда? - пожала она плечами, все не отрывая взгляда от Жени.
- Раз есть забор, значит - за забор. Похоже, она была заправской предводительницей в своем детдоме - велела стать парами, себе без всяких обсуждений выбрала Женю, они пошли первыми, две пары, друг за другом, в ногу, смело подняв головы,
глядя открыто в глаза встречным взрослым. Словом, четверо дежурных идут не толпой, а строем по какому-то важному делу.
- Ну-ка, - сказала Зинаида, - еще и поприветствуем эту старушку, наверное, она кладовщица, три-четыре!
Они поглубже вздохнули и выкрикнули хоровое лагерное приветствие:
- Всем-всем-всем! Добрый день!
Старушка в сером халате, семенившая навстречу, то ли действительно кладовщица какая, то ли подсобная работница, шарахнулась от неожиданности, потом скомканное ее личико расправилось в улыбке, она остановилась позади, запричитала вслед:
- Ой, дитятки, какие же вы культурные, воспитанные, спасибочки, а еще говорят, детдомовские!
- Детдомовские, баушка, детдомовские, - гаркнул, не оборачиваясь, Генка, и они все четверо чуть не лопнули от хохота, едва не рассыпав четкий строй.
- Не встретить бы только наших, - волновалась Катя, повторяя одно и то же.
- Скажем, что идем по заданию дежурного на компрессорную станцию! - сказал Женя.
- А зачем? - удивилась Катя.
- 3а компрессами! - ответил он, и строй снова зашатался во все стороны. - У Наташи Ростовой, - не унимался Женя, - заболела голова после вчерашнего первого бала.
Зинка смеялась, как и все, но вот глаза у нее были холодные, даже больные. Она смотрела на Женю долгим внимательным взглядом, когда смеялась, и он пожалел, что вспомнил про Наташу Ростову.
Всё катилось как по маслу. Встречные взрослые приветливо отвечали на дружное приветствие озабоченной четверки, перебирали, пожалуй, ребята, можно просто поздороваться и строем ходить вчетвером вовсе не обязательно, но у кого и когда вызывала подозрительность или хотя 6ы осуждение чрезмерная вежливость и дисциплинированность.
Они отшагали немало и без всяких препятствий. Появился железобетонный забор. Одна из тысяч асфальтовых лент, которыми были располосованы рощи и поляны прекрасного парка, тянулась вдоль ограждения. Уклонившись сперва к горам, ребята вновь возвращались к морю - оно уже мелькало, серебрилось сквозь деревья и кусты.- Пора, - скомандовала Зинка.
Сначала наверх вскарабкался Генка. Женя помогал девчонкам. Они сняли сандалеты, становились сначала на колено Жене, потом на плечо, он разгибался, стараясь глядеть в сторону, а Генка помогал им перебраться на забор. Во всем этом не было, пожалуй, ничего необычного. Катька сопела куда-то Жене в ухо, норовила свалить его набок своей невозможной тяжестью, будто она не из мяса и костей, как все люди, а каменная. Настала очередь Зинки.
Ну и дурная девчонка! Вместо того чтобы лезть, да поскорей, она уставилась на Женьку. Стояла перед ним и глазела во все шарики.
- Ну! - поторопил он.
Она перекинула сандалии через забор, даже не глядя, куда кидает, подошла вплотную к Жене и легко поставила ему ступню на колено.
- Выдержишь? - шепнула она.
Короткая плиссрованная юбчонка съехала с бедра, открывая ногу до самого паха, и Женя вдруг - опять впервые в жизни! - почувствовал неизвестную прежде манящую запретность этик ног, этой кожи, которые совершенно отличались от всего, что он знал раньше о девчачьих ногах - в бассейне или же здесь, на пионерском пляже.
- Давай скорей, - грубовато подхлестнул он Зинаиду и, отвернувшись в сторону, точно так же, как и от толстой Катьки Боровковой, подхватил ее за бедра, помог утвердиться на плечах, распрямился.
Была ли она легче Катьки? Он совершенно не понял этого. Впрочем, он ничего не понял. Катька казалась каменной, а тут он не почувствовал ничего - какие-то легкие движения, и Зинки нет, Генка протягивает руки с широкого столба.
По ту сторону лагеря они спустились также, только внизу теперь стоял Генка, который балагурил, болтал и своей болтовней помог Жене скрыть остатки смущения.
Вот только смотреть на Зинку ему не хотелось. Он пялился на море, на дикий пляж, на горы, будто это все было ему, ох, как интересно, хотя пляж был хуже, а море точно таким же, как за забором, в лагере, и сиреневые горы, конечно же, не изменились от того, что четверо пионеров перелезли через забор - ради чего, ради какого черта?
А Зинка взбесилась.
Заголосила, заблеяла какую-то дурацкую песенку, даже засвистела, так что здоровые парни, лежавшие на другом краю пляжа, разом подняли головы и посмотрели в их сторону. Но парни резались в карты, им было не до мелюзги в пионерской форме, вылезшей из-за забора.
Вообще все это было глупостью с точки зрения Жени, выходило за пределы здравого смысла. Побег из лагеря считался чрезвычайным происшествием самого высшего порядка, а они сбежали, чтобы тут же, под забором, улечься на дикий пляж - бессмыслица какая-то. Ну хоть бы еще отошли, так нет, Зинка тут же стянула с себя юбку и матроску, оказалась в трусиках и лифчике, в одном белье, словом, стала раздевать Катьку, но та противилась, верещала, так что здоровые парни опять поглядели в их сторону и засмеялись, похоже, сказали какую-то гадость.
А Зинка будто ничего замечать не хотела. Легла на живот и велела Кате расстегнуть бретельки на лифчике, чтобы, видите ли, спина загорала ровно. Дурочка, она подражала взрослым женщинам, но это подражание, все эти движения, жесты выходили у нее как-то грубо и резко, а оттого выглядели нагло, бесстыже. Похоже, Зинка хотела чего-то доказать - только вот кому? им, мальчишкам? себе? но уж никак не Кате Боровковой! - устраивала какое-то копеечное представление, дешевый театр.
Она положила голову на руки, будто 6ы замерла, нежась, но Женя видел, как напряжено все ее тело, ее спина. Края лифчика, точно крылышки, распластались на гальке, и Женя увидел нежно светлеющую в тени грудь, ее часть, самое основание, приплюснутое тяжестью тела.
Так вот ради чего весь этот спектакль! Чтобы они посмотрели на нее! И подумали 6ы, что она, Зинка, почти взрослая!
Господи! Ну и дура!
Женя сбросил шорты, плавки «Адидас» остались в палате, поэтому он, как и девчонки, остался в трусиках, правда, трусики были красивые, красные, похожие на плавки, во всяком случае, в них было не стыдно купаться, и он подумал, что еще какая-то подробность зацепила его в Зинке. Он снова повернулся к девчонкам, не удержался, посмотрел на белеющее в тени пятнышко, потом перевел взгляд на расстегнутый лифчик и понял, что он не магазинный, а сшитый грубо, неумело, а в одном месте, неподалеку от пуговицы, так же грубо заштопан.
Катя тоже сидела в нижнем белье, стыдливо обхватив руками плечи, спиной к морю, к мальчишкам, и Женя понял, что стыдилась она не напрасно, ее трусишки просвечивали, а коричневый ее лифчик, вернее полоска материи, в том месте, где полагалась грудь, обвисал неуклюже сшитой лентой.
В воде барахтался, бултыхался Генка, и, поворачиваясь к нему, Женя почувствовал, что его больно и тонко, точно иглой, укололо какое-то новое и необыкновенное чувство.
Что это было, он твердо не знал, ему просто стало душно, тесно отчего-то на этом берегу, в этой бескрайней соленой воде, и яростно захотелось подойти к этим двум девчонкам на берегу, к этой дурочке Зинке и погладить ее по голове, бережно застегнуть пуговку штопаного бедного лифчика и сказать ей что-нибудь такое, может быть, и вполне обыкновенное, простое, но так, чтобы за этими словами угадывались совсем другие, необыкновенные слова, которых он в своей жизни никогда и не произносил, больше того, они ни разу не приходили ему в голову.
Нет, он не знал этих слов, может быть, просто-напросто он еще не добрался, не дожил до них, и спроси его прямо и строго в ту минуту, что с ним такое, Женя не смог бы объяснить, как не мог он толком даже самому себе сказать, что с ним происходит, - ему просто стало душно, стало тесно, стало жалко Зинку и Катю, и этого Генку нескладного стало жалко, в носу защипало, а к глазам подбирались какие-то колючки, и он, чтобы не поддаться самому себе, этой странной слабости, бросился лицом в воду и привычно зашлепал руками, как бы избавляя себя сильными гребками, энергичными вдохами и выдохами, движениями всего тела от сильной власти нежданно прихлынувшей тоски.
Никто здесь не следил за ним, никакие буи не ограничивали его свободы, и Женя изнурял себя гребками, пока не изнемог вконец. Тогда он повернул к берегу и лег на спину.
Вот это было знакомое чувство! Ты лежишь на зыбкой воде, сверху тебе в глаза заглядывает бездонное небо, а под тобой такое же бездонное море, и ты оказываешься между небом и землей, ты подобен рыбе и птице, у тебя нет опоры, ты как бы сам по себе, и эта безопорность, напоминающая, наверное, космическую невесомость, позволяет с предельной полнотой ощутить собственное тело. Ты переполнен лишь одним собой, ты паришь в зыбком пространстве, и тебя распирает радость, от которой хочется закричать.
Пока что в Жениной жизни это было самым глубоким и самым радостным чувством, и он считал одиночество в море не чем иным, как самым настоящим счастьем.
Он уже давно знал, что стоит только лечь на спину в тихом или едва колышущемся море, как его тотчас настигнет счастье. Он знал, что может сплавать за счастьем.
Знал, как его найти.
Он нырнул в глубину со спины. Прогнулся назад, поднял вверх ноги, сложенные вместе, и медленно опустился вниз под одной лишь тяжестью собственного тела. Подождал, пока сила тяготения не потеряет своей власти и вода не начнет выталкивать его назад, с глубины, потом перевернулся, помог себе ногами и пробкой вылетел на поверхность, развернувшись лицом к берегу.
Женя радостно крикнул, вылетая по пояс из воды, махнул рукой приятелям, оставшимся на пляже, и увидел, как Генка, один только Генка, повернул к нему лицо на одно мгновение.
Зинка лежала по-прежнему на берегу, только теперь лицом вверх, на лице у нее лежала панама, прикрывая от солнца, рядом приподнялась на колени Катя, а полукругом к ним подходили здоровые парни, те самые, что играли в карты.
Женя рванулся вперед. Чтобы плыть быстрее, он вообще 6ы не должен смотреть вперед, погрузившись в воду, выхватывая на каждом втором гребне глоток воздуха, но тут он без конца вскидывал голову, и в сознании регистрировались сцены, разъединенные между собой секундой-другой бурлящей воды.
Вот шпана подошла к девчонкам совсем близко, и Генка выходит из воды, не понимая еще ничего, на всякий случай, мало ли. Вот Катька стоит на коленках, разогнулась. Только Зинаида лежит себе, уснула, что ли, - лифчик все так же расстегнут, раскинут в стороны. Парень в зеленых плавках быстро наклоняется и хватает этот лифчик, подонок!
- Гад! - крикнул Женя, поднимая себя над водой. - Отойди, гад!
Парни смеются, даже если бы Женя был на берегу, что для этой банды два пацаненка, которые им по плечо самое большее.
Зина садится, похоже, она и правда спала. Женя видит ее груди, почти как у взрослой, она вообще в этом смысле как будто старше остальных, а с Катькой и сравнить нельзя, поэтому, наверное, и пристают эти здоровые парни. Потом она хватает панаму и прикрывается ею. Но это глупо, она понимает это сама, опускает голову. Катька уже стоит перед ней, что-то кричит. Генка совсем рядом. А здоровый парень в зеленых плавках размахивает над головой этим проклятым лифчиком, кретин, и остальные падают от хохота.
В следующий миг обнаженная по пояс Зинка вскакивает и, бросив жалкую свою панамку, бежит в сторону пацана... При этом она часто наклоняется, хватает гальку и умело, по-мальчишечьи, швыряет в парня.
Зеленый выпускает лифчик из рук, сгибается пополам - молодец, значит, приварила, - остальные матюгаются и пытаются подобраться к лифчику, но Женя выскакивает по пояс из воды и орет во все горло:
- Ура! Подмога! Катер идет!
Парни озираются, но все-таки отбегают, Зинка уже одета, натягивает юбку, Генка подсаживает девчонок у забора, а Женя только теперь достает ногами дно.
Он одевается не спеша не потому, что уж такой отважный; а потому, что просто нет сил. Парень в зеленых плавках матерится с такой страстью, что кажется, может даже взлететь или взорваться. Но остальные крепко держат его, и чей-то визгливый голос повторяет:
- Дурак! В тюрягу захотел? Нашел с кем вязаться! С пионеркой! Дурак ты! Дурак!
Генка ждал его на заборе, они с шумом свалились на свою территорию, осмотрелись. Вокруг не было ни души. Зина и Катька быстро, не оборачиваясь, шагали впереди, не разговаривали даже между собой.
- Ну-ка, стойте! - приказал, подумав, Женя. Девчонки послушно остановились. - Давай, Ген! велел Женя товарищу; и они встали рядом. - Подтянись! - продолжал он командовать, будто только тем всю жизнь и занимался. Потом повернулся к девчонкам. Зина смотрела в сторону, никого не хотела видеть. Побледнела, закусила губу. А Катька жалеючи смотрела на нее.
- Ну вот что! - сказал Женя. - Поправить одежду. И шагом марш! В ногу!
Он посмотрел, идет ли в ногу Зина позади него, еще раз взглянул на нее, еще. Она отворачивала взгляд.
«Значит, обиделась! - думал Женя. - Правильно, пожалуй! Заплыл черт-те куда за своим счастьем! Вообще все мерзко, мерзко... И ведь они с Генкой ничем не ответили тем парням. Зинка сама приварила фингал зеленому. Сама защитилась...
Он обернулся еще раз - Зина смотрела в сторону.
Отряд встретил их покоем, Пима не было, а дежурным Катька буркнула, что они вернулись с дежурства на спасательной станции.
Прошла красивая Аня с отсутствующим взглядом. Похоже, теперь их дороги расходились - девчонки отправились в сторону своей палаты, а мальчишки пошли в игровую. Там стояли громадные шахматные фигуры на полу, расчерченном под доску. Фигуры надо было брать обеими руками и переставлять с клетки на клетку, напрягая брюшной пресс.
Вместо того чтобы упражнять головы, как это бывает в шахматах, мальчишки стали упражнять животы.