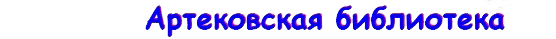|
→ Версия для КОМПЬЮТЕРА 
|
«Месяц в Артеке», В.Киселёв
10
Улетела ночь прибрежного костра, и первые делегации стали разъезжаться. Прощались уральцы, дальневосточники, целинники. Выписывались и получали свои вещи киевляне. Рита, Лёсик, Анечка, их подруги ходили сплошь зарезанные. Наташа не ссылалась на позднюю вожатскую летучку, не объясняла причину опухших век. Мальчики крепились до отправления автобусов. Отдельные личности слонялись по различным зарослям. Вовка-дядя, например, долго пополнял напоследок свой артековский гербарий. И Ритка, — ошеломляющее и запоздалое открытие! — ему усердно помогала. Мама моя, за какой-то месяц как все они сдружились!
Дневники запестрели от пожеланий, клятв, напутствий, адресов, имен, стихов и прочего. Свои откровения девчонки передавали друг другу без осложнений и задержки. После каждого слова нужны были знаки восклицания величиной с колонны на балу Ростовой. Сильный пол корпел, выбирая выражения.
На общем слезном фоне то и дело проступало самое надрывное, самое ужасное — Ольгино лицо. Каменно-твердое, как у бюста Воронцовой в Алупкинском дворце. Подруга не плакала наравне с мальчишками. После завтрака отчеканила:
— Его не будет. Он уехал.
Как часто случается непредвиденное, ни к месту, ни ко времени. Задумаешь славно, а выходит кувырком. Все ожидания, все планы Ольги рухнули. Зачем-то понадобилось Марку в Симферополь, и он скрылся с ребятами из «Лазурного» , на целый день.
, на целый день.
— Проводи меня, — попросила Ольга. — И ни о чем не спрашивай.
Сперва пришлось удивиться: о каких проводах идет речь? До посадки в автобусы оставалось еще полдня. — Пойдем попрощаемся с Артеком, — пояснила Ольга. — С нашими дорожками. Но только помолчим.
Они побрели, но молчали пять шагов, потом залопотали без умолку. Только не про Марка. И не про Олега. Они протащились мимо пляжей, миновали гавань, «Кипарисный» и вышли на шоссе. Поднимались медленно все дальше, оставляя позади бесконечные, расшитые змеистыми швами гранитные подпоры-стенки, ковыляя по одностороннему тротуару. Здесь уже не с чем было расставаться, никогда прежде так далеко они не заходили. Но Ольга вела ее словно по маршруту.
и вышли на шоссе. Поднимались медленно все дальше, оставляя позади бесконечные, расшитые змеистыми швами гранитные подпоры-стенки, ковыляя по одностороннему тротуару. Здесь уже не с чем было расставаться, никогда прежде так далеко они не заходили. Но Ольга вела ее словно по маршруту.
Около ворот «Лазурного» (так вот где ты, «Лазурный»!) подъем кончился. Дорога перегнулась и пошла вниз. Они замерли перед открывшейся картиной крымского взморья, окрашенной во все небесные оттенки. На фоне далекой фиолетовой горы светлела горушка поменьше, словно дочурка под рукой раздобревшей матушки. Там, куда сбегало шоссе, угадывалась близость большого поселения, оттуда всплывали домашние дымки.
(так вот где ты, «Лазурный»!) подъем кончился. Дорога перегнулась и пошла вниз. Они замерли перед открывшейся картиной крымского взморья, окрашенной во все небесные оттенки. На фоне далекой фиолетовой горы светлела горушка поменьше, словно дочурка под рукой раздобревшей матушки. Там, куда сбегало шоссе, угадывалась близость большого поселения, оттуда всплывали домашние дымки.
— Вот и все, — весело вздохнула Ольга, смотря далеко вниз, на пятнышки машин и на разрозненные ручейки прохожих. — А я почему-то думала, что до Гурзуфа гораздо ближе. А на самом деле тут час ходьбы армейским шагом.
Они пошли обратно.
— Когда приедешь домой, не теряй его из виду. Он жаждет посмотреть рисунки Эн Рушевой, пригласи его к себе. Я полагаю, твои родители возражать не станут. Пригласишь? И сообщи мне потом о его визите во всех подробностях. Он обещал мне... переписку. Но я знаю, он обещал мне переписку лишь потому, что я твоя подруга. А ты ему интересна как художница. Ну, хорошо, не дергайся, — как человек с определенною способностью. Не все ли равно. На будущее лето он снова собирается сюда вожатым. И у него в пресс-центре определенно найдется очередное... впечатление. Я же не круглая и отдаю себе отчет. Прекрасно понимаю: ему нравится нравиться. Это его хобби. Жена и не ревнует. Я буду жить твоими письмами...
В часы отъезда «Икарусы» с кострами на боках подают на верхнее шоссе. На площадку у корпуса «Прибрежного» , где трудится администрация. «Плато рыданий и стенаний». Когда Ольга устроилась у окна автобуса, она различала подругу за широким стеклом довольно-таки ясно. Но потом «Икарус» дернулся, каменное лицо Ольги тоже дернулось, стало таким же непохожим на себя, как и лица в остальных окнах, — расплылось и перестало различаться. Кто провожает с радостью свое счастье? Осталось утешение перечитывать дневниковые записи и сказку, три тетрадные странички. Эта сказка родилась у подруги после похода на Роман-Кош, по тропинкам партизанской славы. Скорее всего как результат полярных переживаний: с одной стороны — легендарные места, а с другой — отсутствие в походе Марка. Так или не так, но появление Ольгиной сказки память почему-то связала с походом на Роман-Кош. На другой день, когда они укрылись в излюбленном кипарисовом тайнике пониже «Незабудки», Ольга вручила ей три тетрадные страницы, исписанные вкривь.
, где трудится администрация. «Плато рыданий и стенаний». Когда Ольга устроилась у окна автобуса, она различала подругу за широким стеклом довольно-таки ясно. Но потом «Икарус» дернулся, каменное лицо Ольги тоже дернулось, стало таким же непохожим на себя, как и лица в остальных окнах, — расплылось и перестало различаться. Кто провожает с радостью свое счастье? Осталось утешение перечитывать дневниковые записи и сказку, три тетрадные странички. Эта сказка родилась у подруги после похода на Роман-Кош, по тропинкам партизанской славы. Скорее всего как результат полярных переживаний: с одной стороны — легендарные места, а с другой — отсутствие в походе Марка. Так или не так, но появление Ольгиной сказки память почему-то связала с походом на Роман-Кош. На другой день, когда они укрылись в излюбленном кипарисовом тайнике пониже «Незабудки», Ольга вручила ей три тетрадные страницы, исписанные вкривь.
— Прочти, я сочинила ночью.
И она прочла:
«Сказка о миме Мульте.
Жил-был мим. Он был бродячим актером и поэтому многое повидал за свою жизнь и знал много хороших людей. Они любили его, а он любил их.
Мима звали Мульт. Он сам выбрал себе это имя. Мульт — это маячившая на земле черная фигурка, бледное лицо с большими, вечно печальными глазами. Мульт — это руки с длинными тонкими пальцами. Мульт — это доброе сердце и нежная душа. Он поражал людей своими пантомимами. И когда он покидал какой-нибудь город, его всегда провожала грустная толпа жителей. Провожали Мульта, уговаривая остаться или приходить снова. Говорили, что Мульт приносит счастье в своих легких руках. А кто с радостью провожает свое счастье?
Таков был Мульт. Еще он любил Пушкина и ненавидел войну во Вьетнаме. Он слушал рассказы людей, но сам любил помолчать. Кто знает, может быть, в это время он вспоминал прошлогодний снег, а может, искал мирное применение термоядерной реакции. Да, он молчал много, на то он и мим.
Как-то в одном городе, где был мим, пошел снег. Снег был липкий, его было много. Мульту в его мыслящую голову пришла идея слепить снежную бабу.
Надо ли говорить, что Мульт в ту же минуту в нее влюбился? Он дал ей нежное, по его мнению, имя: Мультия. И от радости стал с ней танцевать. Мультия, конечно, не могла выдержать современного ритма и рассыпалась.
Мульт не мог понять, что произошло, а когда понял, ушел навсегда из города. Когда его спрашивали, почему он не возвращается туда, он отвечал:
— Там погиб мой лучший друг!
Тогда ему говорили:
— Останься у нас. Мы слепим тебе нового друга
— Нет, — не соглашался Мульт. — Лучше все равно не будет.
— Чего же ты добьешься в других городах?
— Меня узнает много хороших людей. Они будут рассказывать обо мне другим, другие — другим, и тогда сбудется моя мечта.
— Чего же ты хочешь в своей мечте?
— Я хочу стать сказкой...»
После чтения Ольга прошептала почти неслышно:
— Тебе нравится?
— Да, — ответила она подруге, тоже шепотом.
— Ты меня поняла?
— Еще бы, — откликнулась она. Как же ей не понять Ольгу, когда на своем веку ей самой довелось придумать столько разных сказок! — Но, мне кажется, встречаются лишние слова... И потом, разве нужно здесь о Вьетнаме?
— О Вьетнаме нужно везде! Кроме того, он еще отредактирует.
— Ты думаешь это отдать ему?
— Конечно, — ответила Ольга и подняла удивленные глаза. — А почему нет? Есть же в «Парусе» раздел творчества.
Сказка так и не была показана Марку, осталась ей на память. После отъезда Ольги она перечитала «Мульта» раз двадцать, пока не выучила наизусть.
...Взяв пятаки, они пошли к морю. На осиротелый берег. Притащили лежаки и разместились безупречно, на вполне приличном друг от друга расстоянии. Хотя и не слишком далеко. Алькины слова отлично слышались. Даже тогда, когда голос у него путался и окончания глотались. Это случалось часто, потому что Алька то и дело сбивался на серьезную тематику.
— Ты знаешь, что я раньше думал? — спрашивал он абсолютно безучастно.
— Нет, а что? — поддавалась она на провокацию.
— Я раньше думал, что тебе нравится Сергей.
— Какой еще Сергей? — удивлялась она, теперь уже просто по инерции.
— А тот, из «Школьных лет».
— Вот еще, с чего ты взял?
— Ты с ним три раза танцевала.
— Когда?!
— А на первом вечере... на Костровой, — торжествовал Алька. И голос у него срывался.
— Ты вёл учёт?
— Да, вёл учёт. Я сам подходил к тебе два раза, когда партнерами менялись. Разве ты не помнишь?
Молчание, — полное беспамятство. Пришлось незамедлительно менять содержание вопросника:
— Послушай, как ты умудрился тогда запомнить всех актеров-режиссеров? Ну, не тогда, а когда «Морозко» показали? Для своей рецензии? Тебе помог Марк Антонович?
— Вот еще, я сам!
— Феноменально!
— Правда? — ликовал Алька. — Я «Морозко» два раза видел еще до Артека...
Море шумело неласково, решило поштормить. А они читали стихи, и чужие, и свои. Алик творил все последние деньки, и стихи вышли у него отличные.
Берег никогда не покидает моря,
Море никогда не прощается с небом,
Небо всегда остается с луною,
Луна неразлучна со звездами,
Звезды повенчаны с песнями,
Песни роднятся с любовью,
А двум пришла пора расставаться
И с морем, и с небом, и с луною, и с песнями,
И даже друг с другом,
И, наверно, уже никогда-иикогда-никогда
Они и не встретятся,
Больше не встретятся.
Потрясающе удачные строчки! Но по части луны и звезд Алька немного промахнулся. Небо с погасшими клочками туч напоминало пыльные верха павильона, где снимался бал, оно супилось и скучало. Светил на нем не различалось, оставалось их вообразить. Но вообще-то, в принципе, где-то всегда наблюдается небо в алмазах. Она тогда же подумала, каким нарисует Альку в первом же письме, которое отошлет ему из Москвы в Сальяны: певец в стане пионеров, воздетые кверху руки и разинутый до ушей рот, в горле будет виден звенящий колокольчик.
— Ты не обидишься на такое свое изображение?
— Нет, но пиши почаще.
Раза два она попыталась отвести душу, повспоминать Аликом про Ольгу. Но к ее попыткам Алик остался равнодушным. Только и было сказано — Что ж — Ольга... Ольга? «Тиха, печальна, молчалива...» Эх, Алька, Алька! Ровно ничегошеньки ты так и не узнал про нее!
Не едиными стихами жив человек — подступила пора ужинать. Они подошли к накату пены и бросили свои медяшки. Странное дело, в бурлящей кипени они и увидели, и услышали оба всплеска, сначала один, а затем и второй. Оставалось оттащить лежаки на штабель, и Алик отводом обе решетки. Они взяли друг друга за руки и дошагали рядом до первой узкой лесенки.
Зажигались торшеры, и в их подсветке аллеи и корпуса менялись, словно декорации. Море штормило в отдалении все глуше. И на последней лестнице она привстала будто вкопанная. Поймала себя на мимолетном, давнем. Как странна поднимается к «Фиалке» там же, где и в первый вечер по приезде. Бывают же в жизни такие совпадения! Только тогда ее вела наверх Наташа, а теперь за ней самой плетется Алька. Бесконечно грустный... И его можно понять.
Медленно отступала в темноту аллея кипарисов, последняя перед выходом на освещенную площадку. Секунды на решение... На признательность за все: за «идиота», за «ничего и не знал», за дружбу, за стихи... за пальцы.
— Постой! — приказала она, придержав Алькину ладонь. Нужно было закрыть глаза, и она зажмурилась. Повернулась к Алику вслепую и поцеловала, не чувствуя, куда, в губы, висок, шею или щеку. Но это и неважно, вряд ли что соображала. И дико сердце колотилось. Но убежать и не подумала, отвергла малодушие. К «Фиалке» вышла собранной. А вот Алик... Когда она обернулась, он все еще стоял, как статуя, в темноте аллеи...
Москвичи собирались для отъезда в «Горном» . Оплывший Дантон, Галя, Раф, Иришка, — вокруг встречались лица, теперь уже знакомые. Но из «Полевой—Лесной» здесь была одна она. Если, конечно, не считать Альки.
. Оплывший Дантон, Галя, Раф, Иришка, — вокруг встречались лица, теперь уже знакомые. Но из «Полевой—Лесной» здесь была одна она. Если, конечно, не считать Альки.
Теперь она устроилась в «Икарусе», а он стоял под ее окном, оставался в отряде еще на сутки. И все происходящей ощущалось вдвое острее, потому что провожающих здесь толпилось множество: казалось, что и «горняки», и москвичи смотрят лишь на них двоих. Хотя на самом деле каждого поглощал собственный отъезд. И на Альку никто не обращал особого внимания.
Перед ее посадкой он извлек из-за ворота багровый «львиный зев». И передал ей. Сказал, что хотел сорвать сначала розу, но у розы все-таки шипы. И розу... стало жалко. Она подняла «зев» к окну и стала постукивать по стеклу соцветьями. Еле-еле слышно. Но Алька и без того смотрел на «зев» не отрываясь.
Дословно помнилось все, что написали ей в дневник перед разъездом слётовцы.
«Около тридцати дней мы жили вместе. И вот мы расстаемся, — отпечатался в глазах милый Ольгин почерк. — Я уезжаю одной из первых. Увожу с собой память об Артеке, все самое хорошее, только хорошее, все то, что дал мне Марик, артековскую форму и, наконец, нашу дружбу. Ее мы делили с тобой пополам. В столь разных местах, в Москве и на целине, будут жить два артековца-слетовца. Очень хорошо, что мы попали в эту смену, это большая работа, высокая честь — быть на слете. Нашей дружбе помогала наша газета, милый наш Марк Антонович. Как я буду жить без всех вас, я не знаю, Надюша, дорогая, мы, конечно, не забудем друг друга.
6. VШ.1967 г. Ольга».
Здесь всё, весь месяц, и на первое место выведен Артек. После, разумеется, упомянут Марик, не забыта форма и, наконец, дружба. Чепуха, какие там места, все — одно целое. Алик написал свое напутствие тоже шестого августа, кое-что с намеком: «Вот и конец. Завтра мы разъезжаемся. Вряд ли когда-нибудь встретимся. Хочется, чтоб у всех остались в памяти эти дни. Чтобы пребывание здесь оставило самое светлое, самое заветное, чтобы сохранились самые сокровенные воспоминания». Далее следовали пляжные стихи в несколько облегченном виде:
Волна не расстается с берегом,
С тобою расстанусь я.
Давай посидим, как тем вечером,
У нашего костра.
Олег.
Самое заветное и сокровенное — это, естественно, задержка при выходе из кипарисовой аллеи на освещенную площадку.
В Алькином дневнике остался ее ответ: «Почему ты думаешь, что мы не увидимся? Мы должны встретиться, мы обязательно встретимся».
Зримые строчки стали расплывчаты, она очнулась и посмотрела в окно: Алик сжался, опустив голову. Она ждала когда же он снова посмотрит на свой цветок, решила, что «зев» засушит в артековском дневнике, рядом со стихами. В чемодане, кроме дневника, покоились и другие драгоценности: диплом и снимок у знамени, еще слетовский спецвыпуск «Пионерской правды». Он вышел к отъезду, как по заказу, пятого числа; первую страницу газеты расчлени десять квадратов, в одном из них поместили двустишие: «Кто сдружился в Артеке, тот сдружился навеки», в других — фотоснимки, а в последнем — ее заставку, хороводную игру. И еще три рисунка дали в конце номера. Взяла с собою: и большой рулон, двенадцать плакатов, оставшихся под конец бесхозными в пресс-центре.
Она своего дождалась: Алька опомнился, вскинул голову, увидел «зев» и тут же отвернулся, уставился на Аю-Даг.
«Икарус» покатил, обогнул поверху незастроенную впадину, миновал стадион, за ним «плато рыданий и стенаний», повернул на развилке и, рыча, яростно понесся в гору. Гарь от ревущих выхлопов голубоватой завесью всклубилась позади и задернула шоссе, море зелени, корпуса, горбатую скалищу.
И ещё — детство.
| | |
« |
| |
6 |
| |
7 |
| |
8 |
| |
9 |
| |
10 |
| |
» |
| |