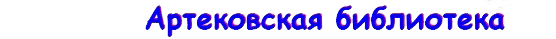|
→ Версия для КОМПЬЮТЕРА 
|
«Мой Артек», Н.Храброва
14
Летние дни в 1942 году
Снова степь, простор, теплынь. Снова еще одно бывшее «дворянское гнездо» - степное имение графов Воронцовых Серебряные Пруды. Простенькое, деревенское поместье в 35 километрах от районного центра Фролова Сталинградской области с железнодорожным узлом Арчеда. По соседству с нами встал на короткую передышку эвакогоспиталь, попавший под тяжелую бомбежку, потерявший половину медперсонала. Госпиталь не просто отдыхает - он комплектуется. Время от времени появляется у нас значительная, голубоглазая, с черной волной коротко стриженых волос средних лет женщина - майор медицинской службы, начальник госпиталя. У нее ранение в позвоночник, она ходит в гипсовом корсете и на костылях. Приходит худощавый немногословный главный хирург. Мое знакомство с ним начинается с неожиданной стычки. У наших дежурных отрядов в Серебряных Прудах появляется новая обязанность - возить из колодца воду на кухню. Вообще воды здесь, что совершенно не типично для степи, достаточно: усадьбу окружают девять светлых проточных прудов, откуда и название. После революции здесь был, разумеется, санаторий, в первые дни войны он опустел. Но вода в прудах считается непригодной для питья, возим ее из колодца. От санатория нам достался коняга-водовоз по кличке Битючка. Надо полагать, что в раннем возрасте называли его Битюгом, потом, с годами, переделали в Битючку. Коняга наш - добродушное милейшее существо, я и сама была непрочь при наличии свободной минутки повозить на нем воду, но свободных минуток было мало, а воды нужно много, и начальниками Битючка стали обожатели лошадей Володя Николаев, по-артековски «Väike», и Адольф Тамм, по-эстонски «Mulk», а по-артековски Муля - весёлый смешливый тринадцатилетний человек из Вильяндимаа. Володю и Мулю любил весь Артек, а Володя и Муля любили Битючку, как близкую родственницу, носили коняге из столовой лакомые подсоленные кусочки хлеба, мужественно урезая свою порцию. И Битючка относился к ребятам, как мог бы относиться добрый благодарный человек.
В очередное дежурство возвращаюсь с ребятами с очередной прополки точно к обеду, привычно полагая, что кухня давно обеспечена водой, что Битючка, обласканный нашими водовозами, отдыхает, что столы накрыты - словом, и это мое дежурство идет, как по маслу. И - вдруг вижу издалека надрывающегося от полно налитой бочки Битючку и плетущихся следом Володю и Мулю. Нарушают режим. Мучают Битючку. Гнев во мне клокочет вулканом, я бегом догоняю ребят и мечу громы.
- Нина, вы только послушайте, - пытаются пробиться сквозь мою тираду мальчишки. Я остываю и узнаю - лошадь взяли военные. Так. Без моего, дежурной вожатой, ведома! Лечу в расположение воинской части, спрашиваю так, чтобы голос не предвещал ничего хорошего:
- Кто ответственный в части?
- С вашего разрешения - я, - представляется майор.
- Где Битючка? Кто вам разрешил взять Битючку?!
- О ком вы говорите?
- Повторяю - о Битючке. Вы же военные, и вы же срываете дисциплину в лагере...
- Минутку, минутку, вы из Артека? Битючка - надо полагать, ваша лошадь? Я - главный хирург госпиталя, майор Мартынов, у нас много раненых, и очень нужна вода. Вас интересует, как вы изволили выразиться, Битючка? Нам его разрешил взять ваш старший вожатый Владимир Дорохин.
Надо хоть с какой-то тенью достоинства отступать.
- Простите, я не знала. Но прошу, по крайней мере, не наливать полную бочку, Битючка к этому не привык.
- Как же вы далеки от всего, что происходит на фронте, - вдруг грустно говорит майор. - Хорошо, мы будем по мере сил и возможностей беречь вашего Битючку...
Нам предстояло прожить здесь два месяца. Благодаря дневникам легко вспомнить - кто чем занимался: Володя и Муля ведали конем, водой и дровами, Володя Аас - электричеством, Харри Лийдеманн с занятным прозвищем «Тюрк», возникшем из-за тюбетейки с кисточкой, был прекрасным пекарем, а Виктор Кескюла переплетал книги и делал нам всем такие блокноты, от которых я и теперь бы не отказалась, и дарились они к праздникам и на дни рождения. Это были ответственные товарищи. Остальные входили в бригады дровосеков, кухонных рабочих, «колхозников» - мы и здесь ходили пропалывать поля. Деньги, заработанные ребятами, по-прежнему переводились в фонд помощи фронту.
В один прекрасный вечер меня вызвал начальник лагеря и сказал:
- Троих ваших ребят приглашают в Москву, на антифашистский митинг эстонской молодежи. Кандидатуры обсудите на сборе группы самым ответственным образом, потом позовете меня.
Собираю ребят, рассказываю. Гвалт поднимается ужасный - все хотят ехать в Москву, все сразу обижены. Как установить хотя бы просто тишину? Видно, надо дать им выкричаться. Они говорят все сразу, я молча жду. Наконец успокоились, говорят мне:
- Лучше, если вы решите.
- Ничего подобного не будет. Сами предлагайте, сами решайте.
Опять шум. Некоторые девчонки всхлипывают.
- Да опомнитесь же, - говорю я, - и не предлагайте Володю Ааса, Ланду, Айно, Виктора, никого, кто занят ежедневной и постоянной работой в лагере.
Тишина. Думают. Я тоже маюсь - думаю и о них и о себе - меня же не пошлют, и останусь я тут трястись за ребят. Тем временем кто-то разумно предлагает послать в Москву Салме Кару. У меня сердце уходит в пятки - она из младших, пугаюсь за нее. Салме встает, говорит дрожащим голосом:
- Я, наверное, недостойна...
- Достойна! - уже хором кричат мои голубчики.
- Кальо Полли! Он такой тихоня, никогда ничего не нарушает, и всех слушается, и хорошо рисует.
- Тамару Крончевскую! Вдруг Салме и Кальо не справятся с русским языком.
Проголосовали. Повздыхали. Успокоились. Зову начальника лагеря, рассказываю. Он в общем согласен - народ и в самом деле симпатичный, надежный, достойный.
- Только о переводчике зря заботились, Нина поедет с ребятами сама, ее лично пригласили.
Сердце начинает здорово стучать - значит, кто-то из ЦК ЛКСМЭ меня вспомнил. Вообще-то, до этого было полное молчанье, если не считать, что в августе 1941 я получила сразу за три месяца свою зарплату комсорга ЦК. Так как на переводе не было ни единого мне адресованного слова, то я и раздала эту зарплату ребятам на мороженое, карандаши и тетради: мне деньги были не нужны, вожатые тоже были на артековском попечении. С тех пор меня забыли наглухо - так мне казалось. Я еще не знала, что после августа 1941 года меня больше некому было помнить в ЦК ЛКСМЭ...
Группа сидит, сочиняет для Салме речь от всех нас. Я получаю на кухне продукты. Уезжаем. Ни одной бомбежки по дороге! Станции на линии Сталинград - Москва все целы, только для маскировки камуфлированы черно-зелеными извилистыми полосами. Мы уже знаем, что во время воздушных налётов при такой разрисовке здания сверху кажутся слившимися с землей.
Москва 1942 года. У каждого дома штабеля мешков с песком для тушения пожаров, для защиты от бомб. В подъездах бочки с водой, совки, лопаты. Всё в строгом порядке. В городе чисто, мало движения, почти нет автомобилей. Пережившая суровую осень 1941 года, выстоявшая Москва становится еще более дорогой сердцу.
Поселяемся в Собиновском переулке, в эстонском Постпредстве встречаю не очень близких знакомых - конечно, о моей родной деревушке никто ничего не знает. Узнаю о гибели руководства ЦК эстонского комсомола... О блокаде Ленинграда. Утром слышу по радио стихи Ольги Берггольц. Потом диктор читает перевод из Джамбула: «Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя»... Непонятностью, холодной пустотой веет от слова «блокада». Что это такое - мы, ведь узнали подробно только после войны. В ту минуту просто верится - Ленинград выстоит, иначе нельзя, не может быть.
В Москве мы заняты все время - встречаемся с членами правительства ЭССР, они живут, в Постпредстве. Нас приглашают в ЦК ВЛКСМ - рассказываем о военном Артеке. Потом я впервые в жизни иду на улицу Правды, в редакцию «Пионерской правды», там у меня(!) берут интервью об Артеке, просят писать им. Я так ни разу ничего и не написала. И тем не менее улица Правды была мне на роду написана: в системе издательства «Правда» я работаю вот уже тридцать пять лет подряд - сначала собкором «Комсомольской правды» по ЭССР, потом собкором «Огонька» по Прибалтике...
Салме выступала на митинге, я сидела в зале и гордилась ребятами. Салме начала было волноваться перед выступлением, мы на нее сообща прикрикнули, Салме волей-неволей осмелела и говорила хорошо, рядом с ней по обе стороны стояли Тамара и Кальо, и пока она говорила, держали руку над головой в пионерском салюте. Дети были красивые, аккуратные. Участники митинга их затормошили, заласкали. Я сидела в зале и видела и слышала все как в тумане. Относительно ребят я была спокойна, они у нас на людях умеют держаться. Меня оглушили вести о тек, кто погиб.
После войны выяснилось, что выступление Салме доставило огромную радость родителям наших ребят. Советское радио в оккупированной Эстонии многие слушали, родители постепенно узнали, что их дети живы и в полном порядке.
Домой мы ехали под непрерывной бомбежкой. До сих пор не понимаю, почему и как наш поезд проскочил, добрался до Арчеды. Все станции по пути были разрушены, разбомблены. Потом, после войны, я не раз ездила по южной дороге, приятно было смотреть на восстановленные, похожие на довоенные здания вокзалов.
Словом, мы вернулись в Серебряные Пруды целыми-невредимыми и позднее узнали, что наш состав прошел по этой дороге последним. Сразу после нас движение прервалось, по этим местам буквально назавтра после нашего героического поезда прошёл фронт.
От Арчеды нас подвез кто-то до оврага, дальше пошли пешком. Вижу - сидят несколько мальчишек из моего отряда. Радуюсь - значит, ждут. Но они не вскакивают, не бегут навстречу – просто медленно встают и стоят на месте как столбы. Значит, случилось что-то...
- Что случилось?
- В Мишу Фоторного в бане во время грозы молния попала, он весь черный и ничего не говорит. С ним Анфиса Васильевна. Анфиса Васильевна - наш врач. Она билась за чистоту как лев. Поила детей хвойным настоем, вторгалась в воспитательные дела - требовала с ребят глаз не спускать. Поэтому несчастный случай с Мишей был у нас первым за всю войну.
Мальчишки рассказали про Мишу, я им в утешение рассказала про мою маму, в которую тоже во время грозы попала молния. Мама трое суток была черная и молчала, потом все прошло.
- Надо радоваться, что Миша жив остался, контузией отделался, - говорю, чтобы их успокоить. Но мальчишки безутешно молчат.
- В лагере все живы?!
- Люди все живы, - монотонно говорит Спец. - Одной курицы нет.
- Какой курицы?! Говорите же, в чем дело.
- Мы украли, убили, зажарили и съели одну жесткую курицу, - громко и раздельно говорит Ваня Заводчиков.
Я вспоминаю, что истерика - это когда человек сразу плачет и смеётся, и креплюсь изо всех сил. После паузы спрашиваю:
- И что же вам за это было?
- Много всего. Ворами назвали. Сказали, что наш отряд «перехваленный» и что нам уже больше никогда первого места не видать.
- Ворами вас правильно назвали, а кто же вы есть теперь такие? Я-то думала - не подведете... И всему отряду поделом, я сама буду голосовать за то, чтобы этот мой отряд никогда больше не получал первого места, раз никто не смог вас остановить.
- Никто не видел. Мы - ночью... Пусть нас одних накажут...
Глупые, злые дети - неужели им еды не хватает?! Я впервые по-настоящему рассердилась на них. Меня прорвало - я рассказала обо всём, что мы видели и слышали в Москве, про голодную блокаду Ленинграда. Потом замолчала - несоизмеримо, непонятно им всё. Руководство лагеря встретило меня возмущеньем:
- Доцацкались со своими любимчиками, - сказал старший вожатый, - тебе сто раз говорили о разумной требовательности.
- Надеюсь, сделаешь выводы? - спросила Тося.
- Надеюсь, сделаю.
Несколько дней я просто не могла смотреть на своих мальчишек, и они держались от меня в стороне. Я слышала, Спец сказал:
- Нине что, она за первое место переживает, а нам каково?
- Вам худо, и это единственное хорошее, что в вас есть, - изрекла я. Они не поняли. Скоро я помирилась с ними. Второй раз я возвращалась из пекла войны в нашу мирную и почти благополучную жизнь, мне было стыдно перед собой, история с курицей казалась неприятным пустяком и были минуты, когда я была ужасно одинока.
А гул фронта становился все слышнее. Однажды на рассвете в мансарде, где я жила, задребезжали оконные стекла. Фронт гудел, как непрерывающаяся, нарастающая гроза. Я спустилась вниз, разбудила начальника лагеря, сказала ему о дребезжании моих стекол.
- Мне кажется, бои идут в Арчеде, - сказала я.
Гурию Григорьевичу очень не хотелось, чтобы это было именно так, он сказал сердито:
- Нельзя ли без ваших доморощенных прогнозов, - и поднял телефонную трубку. Телефон был мёртв. Начальник лагеря посмотрел на меня серьёзно и опечаленно.
- С Арчедой нет связи. Разбудите ребят.
В общем, мы снова были готовы к отъезду. Но отсутствие телефонной связи с Арчедой обозначало, что мы не получим обещанных для отъезда машин. От фашистских мотоциклов пешком не уйдешь.
Мы пошли к своим друзьям в госпиталь.
Главный хирург не спал, одетый сидел у своей палатки, слушал войну. Я спросила его:
- Госпиталь будет выезжать?
- Да. Но я сейчас отдам распоряжение вывезти Артек. Прошу вас поторопиться, до Камышина восемьдесят километров, да еще и обратно. Надо успеть и вам и нам.
Мы собрались удивительно быстро.
Гурий Григорьевич вдруг отдал мне два тяжелых ручных сейфа:
- Храните и помните - здесь документы ребят и вся наша канцелярия. Поедете последней машиной. С вами поедет Миша Фоторный и мешки с одеялами и зимней одеждой...
Пока я закрывала двери и отдавала ключи куда-то отлучившемуся сторожу, передние семь машин ушли одна за другой.
Молчаливый молоденький шофер госпиталя поехал так быстро, что у нас в кузове поползли мешки, на которых я сидела. Машина мчалась, шофер старался догнать своих, я держала мешки обеими руками и даже зубами. Миша лежал на матрасе и по мере сил помогал мне. И вдруг я услышала омерзительный вой идущего в пике самолета. Выпустив угол мешка из зубов, взглянула вверх. На крыльях самолёта чернела свастика, и рыжий летчик выглядывал через опущенное окно вниз на нас. Я успела столкнуть на Мишу мешки и тюки и погрозила немцу кулаком. Я увидела, как он захохотал, взмыл вверх и снова пошел в пике. И так несколько раз. Почему он только пугал нас и не стрелял - не знаю, одна из трудно объяснимых случайностей на войне.
Потом самолёт взвыл и ушел в сторону Сталинграда.
Я раскрыла Мишу, он безмолвно и как-то страшно посмотрел на меня, и сразу уснул - он еще был совсем слабенький после контузии молнией. Шофер выскочил на подножку, глянул, целы ли мы, и помчался дальше. Пыльный ветер летел навстречу, мы ехали к Волге. Гул войны стал тише, я опомнилась и схватилась за ручки временно покинутых мной на произвол судьбы ручных сейфов, расправила мешки и тюки. Госпитальный грузовик увёз и нас с Мишей от войны.
В Камышине узнаю, что в дороге одна из машин не смогла взять подъем на песчаный холм, перевернулась, дети оказались под кузовом. У маленького ростом, славного молдавского парнишки Пети Коцмана вся грудь была сине-лиловая - он попал под угол кузова. Ушибы получили Этель, Салме, Фрицис Гайлис из латышской группы, Ядя Бабенскайте и Беня Некрашиус из литовской. Когда я приехала в Камышин, в летний театр, куда нас временно поместили, ребята были скорее возбуждены, чем напуганы, не было ни слез, ни жалоб и подробности рассказывали главным образом смешные. Вроде того, что Этель, прежде чем упасть, трижды перевернулась в воздухе...
Это, после истории с Мишей Фоторным и молнией, был второй и последний несчастный случай с ребятами. Нас словно судьба берегла: когда мы уезжали из Камышина по Волге, бомбежка была такая, что идущее впереди нас судно потонуло, и потонуло то, что шло после нас. Мы опять уцелели.
Но почему я так много пишу о прифронтовой полосе? Воспоминаний о войне много в эстонской литературе, они написаны поистине золотыми перьями: о путях-дорогах эстонского корпуса, о деревнях без мужчин в трудном российском тылу...
Ответ только один - наши дети целый год прожили рядом с фронтом, они учились бесстрашию и трудолюбию прифронтовой полосы. И пусть будет незатейливый этот, небеллетризованный, в каждой строке документальный рассказ о детях, прошедших сквозь горнило Великой Отечественной войны, еще одним ключиком к пониманию того, как советский народ, каждой клеточкой своей настроенный на мир, в ясное летнее утро ввергнутый в самую страшную в истории человечества войну, пришел к Победе.
Сейчас мы надолго и далеко уедем от войны. В воспоминаниях моих повзрослевших и даже постаревших «ребят» (теперь приходится это слово брать в кавычки) живет благодарная память о тех, кто помогал нам. Таких людей было много, настолько много, что рассказ о них даже по законам простого документального, жанра затянулся бы, во многом повторился, как повторялась изо дня в день человеческая доброта и чуткость в дни войны. Результат доброты этих людей, их - одномоментного ли или каждодневного внимания к детям в том виден, что дети уцелели, они не знали голода и холода, не болели и здоровыми, с сознанием своего посильного участия в победе, с надеждами на доброе будущее вернулись домой.
А сейчас мы надолго и далеко уедем от войны...